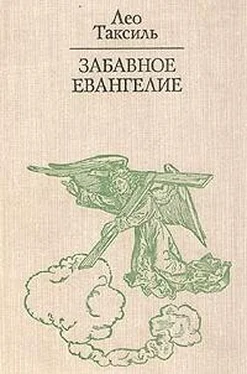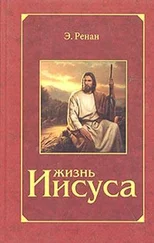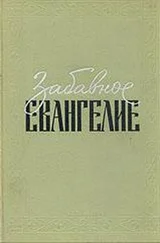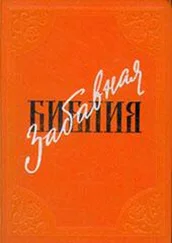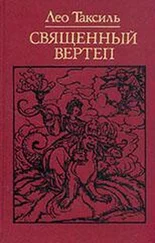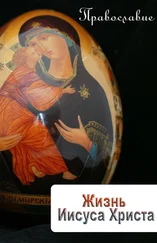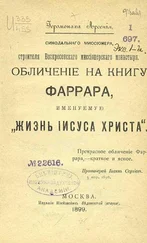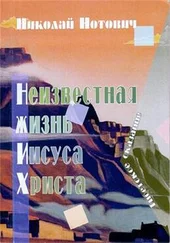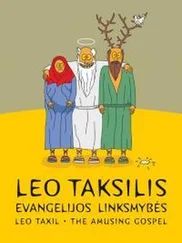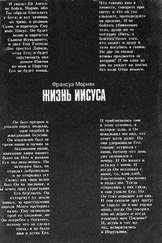Здесь снова евангелисты впадают в неразрешимое противоречие. Если верить Марку и Луке, апостолы находились в этот момент в полном сборе, «в числе одиннадцати». Фома, следовательно, увидел Иисуса, появившегося во время рассказа двух странников из Эммауса, однако даже не подумал выразить сомнения, составившего ему столь лестную репутацию. По Иоанну же, никаким странникам в Эммаусе Христос вообще не являлся: его видела в образе садовника Магдалина, а потом он сразу вломился к апостолам, которые забаррикадировались от иудеев в трапезной. При этом Фомы не было, и он увидел Иисуса лишь восемь дней спустя. А согласно Матфею, Иисус во время свидания с Магдалиной велел апостолам собраться в горах Галилейских, и именно там, на горе, а не в трапезной в Иерусалиме появился перед ними один-единственный раз, так что никто, кроме апостолов, его не видел, а странники из Эммауса здесь вообще ни при чем.
Три мнения, о которых говорит Таксиль, сводятся к следующему. Первое принадлежит богословию. Оно исходит из догмата троицы, по которому христианский бог един, но троичен. Троичность его реализуется через понятие трех ипостасей. В обыденном религиозном сознании они рассматриваются как три самостоятельных лица — бог-отец, бог-сын и бог-дух святой. Одна из этих ипостасей воплотилась в человека («богочеловека») Иисуса Христа, который и принес новое, сотворенное на небесах учение — христианство.
Второе мнение высказано либеральными историками христианства прошлого столетия и заключается в том, что Иисус Христос не бог, а реальная историческая личность, возвышавшаяся над своим веком и размерами своего ума и выдающимися нравственными качествами, созидавшая из собственной «внутренней глубины» новую религию.
Третья точка зрения сводилась к тому, что Иисус не бог и не историческая личность, но миф, сфабрикованный в спое время корыстолюбивыми людьми, и христианская религия возникла как продукт обмана и сплетения «лживых и глупых выдумок».
Нетрудно заметить, что все эти концепции, несмотря на их несовместимость и даже прямую противоположность, в определенном отношении схожи между собой. Все они возникновение христианства связывают не с объективными закономерностями развития общества, социальными аспектами его истории, движением общественной мысли и т. п., а с волеизъявлением того или иного персонажа: в одном случае — божества, в другом — выдающегося человека, в третьем — ловких обманщиков. Разумеется, такой волюнтаристский аспект в объяснении возникновения христианской религии в корне противоречит историческим фактам и не отвечает научному пониманию законов исторического процесса в целом.
Автор имеет в виду евангельскую фразу о божьем Слове, ставшем плотью, и т. п. Не вдаваясь в рассмотрение этого мифа и терминологического разнобоя, остановимся на происхождении самого понятия «Слово», играющего существенную роль в христианской догматике. Понятие «Логос» — «Слово» — восходит к античной философии. Опуская более отдаленные связи, мы можем указать на александрийского философа Филона (I в. н. э.), в учении которого Логос понимается как посредник между миром Идеи (являющейся высшим богом, не причастным ни к чему земному) и миром материи (к которому сопричастен и человек;). В учении Филона Логос (в некотором отношении ипостась вышнего бога) является своего рода устроителем мира материи и посредником между вышним богом и людьми. По этому учению, Логос сообщает людям волю бога и возносит богу молитвы за людей. В религиозно-философских системах гностиков функции Логоса в общих чертах схожи с вышеизложенными. Там он также посредник между воспринимающим его человеком и богом. Он носитель таинственного знания, озарения, дарующего спасение. Воздействие этих дохристианских учений о Логосе — божьем Слове на христианскую теологию вполне очевидно. Одним из наглядных примеров тому служат первые строки Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было бог. Оно было в начале у бога. Все чрез него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть» (гл. 1, ст. 1–3).
Левиты — иудейские священнослужители, составлявшие младшую категорию жреческой касты.
Церковная традиция приписывает авторство третьего канонического евангелия Луке, по профессии врачу из малоазийского города Антиохии.
Читать дальше