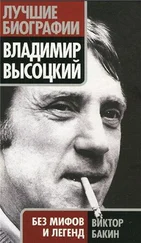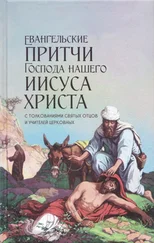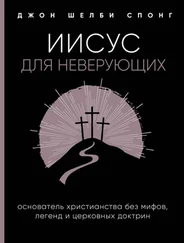Лука, писавший позже Матфея и ориентировавшийся не столько на еврейские чаяния, сколько на более космополитический мир евреев диаспоры и прозелитов из язычников, тем не менее использует фразу «Сын человеческий» 27 раз. Самые поразительные примеры обнаруживаются в описании им конца света (главы 17 и 21), где личность, чье появление, как кажется, знаменует собой конец истории, названа «Сыном человеческим» – определение, которое Иисус у Луки явно прилагал к себе.
Иоанн использует фразу «Сын человеческий» только 13 раз, но для наших целей наиболее примечательна история слепорожденного, которому вернули зрение. Иисус, встретив этого человека, отлученного от синагоги, спрашивает его: «Веруешь ты в Сына Человеческого?» (Ин 9:1–37). Когда человек задает ответный вопрос: «А кто Он, Господи, чтобы я уверовал в Него?», Иисус говорит: «И видел ты Его, и Говорящий с тобою – это Он». В этой истории сверхъестественный «Сын человеческий», в чью задачу входит суд и возвещение Царства Божьего, соединен с ранней, не столь апокалипсической по характеру мессианской фигурой у Исаии – образом того, кто принесет людям мир и вернет их жизни цельность, заставив слепых видеть, глухих – слышать, хромых – идти, а немых – петь, как знак близости Царства.
Мессианство Иисуса, таким образом, толковали двояко. Он воспринимался как сверхъестественный «Сын человеческий», вершащий последний суд, но также и как источник исцеления здесь и сейчас. Его первое пришествие ознаменовалось целым рядом чудес исцеления, свидетельствовавших о скором наступлении Царства, но он же станет в последний день судьей, который окончательно установит Царство Божье. В обоих случаях была предпринята попытка найти язык достаточно всеохватывающий, чтобы описать тот опыт, который испытали люди в присутствии Иисуса.
Жизнь Иисуса была жизнью, в которой, как считалось, любовь преображала не знавших любви, принятие заменяло собой боль отторжения, к уязвимым снова возвращалась целостность, а сама жизнь расширялась настолько, что выходила за пределы возможного. Все истории, сложившиеся вокруг него, рассказывали о тех, кто ощутил себя возрожденным, узнав его. Поэтому память о нем связывалась с целительными признаками грядущего Царства так, словно те были событиями реальной истории. Так люди хотели сказать: «Мы встретили того, в ком, как мы теперь видим, занялась заря Царства Божьего». Люди ощутили, что именно в человеке Иисусе – таком цельном, открытом, свободном – в их жизнь явился сам святой Бог. Бог был во Христе, и Бог этот был любовью, приносящей исцеление. Видя его жизнь, его ученики стали говорить, что Иисус был «начатком» Царства. Эта фраза встречается дважды у Павла (1 Кор 15:20, 23; Рим 8:23) и один раз у Иакова (1:18). Есть она и в Откровении Иоанна (14:4). Евангелия намного ближе к повествовательной форме, но и они все еще отражают такое восприятие Иисуса, рассказывая истории о величайших исцелениях, передавая притчи о последнем суде и рисуя портрет Иисуса как «Сына человеческого», который обновляет жизнь, возвращая людям зрение, слух, подвижность и способность говорить.
Нет, это не сказки о божестве, лишь для вида ставшем человеком. Никто никогда не слышал от исторического Иисуса, будто он станет тем судьей, который в последний день пригласит спасенных войти с ним в Царство Божие. Тем не менее первые христиане начали связывать все эти вещи с человеком по имени Иисус. Сильные переживания требуют расширенных языковых возможностей и новых средств выражения. Последователи Иисуса стремились передать его значение на языке экстатических видений и апокалипсических символов, подыскивая слова достаточно выразительные, чтобы передать значение своего опыта. Именно это означает быть «Сыном человеческим» и именно так это определение пристало к памяти об Иисусе.
В жизни синагоги между 30-м и 70-м годами мощный животворящий опыт Иисуса заключили в рамки еврейских концепций и отмечали внутри еврейской литургии. Иисус был «Сыном человеческим», тем, кто установит Царство Божье. Когда же этот опыт в 70–100-х годах сузили до письменной формы, он принял форму повествования, сплава этих образов.
Не следует забывать, что в первом Евангелии Иисус не рождается чудесным путем. Он даже принимает крещение для отпущения грехов – он, кого мы привыкли считать безгрешным! В момент крещения небеса открылись, изливая на него Святой Дух, и глас Божий признал в нем «Возлюбленного Сына». Иисус борется с этой двойной идентичностью, и то же самое делают его ученики. Как святого Бога можно встретить в человеке Иисусе? Вот вопрос, на который стремятся ответить Евангелия. На тот же вопрос должны ответить и мы, если мы хотим войти в опыт Иисуса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
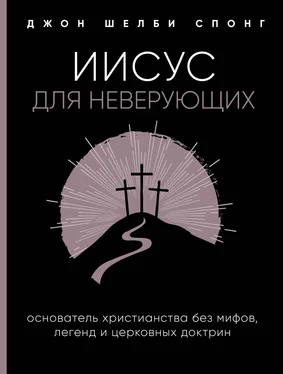
![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)