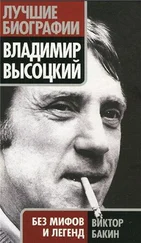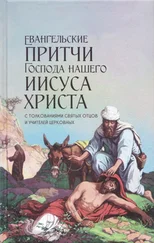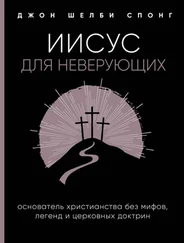Затем тушу заколотого ягненка очищали от кожи, разделывали и зажаривали: она становилась основным блюдом на праздничной пасхальной трапезе. Суть трапезы состояла в том, что семья собиралась вокруг стола Господня и ела плоть «Агнца Божьего». Здесь уже можно заметить смешение разных мотивов иудейской Пасхи и евхаристии. Так в Пасхе выразилась главная истина, которую первые христиане обрели в Иисусе – он жил так, что перед ним в ужасе отступили даже силы смерти.
Подозреваю, что изначально связь между Распятием Иисуса и закланием пасхального агнца не опиралась на историческую память о Пасхе как о времени Распятия. Скорее, она стала итогом непрестанных толкований, вдохновленных, вероятно, словами Павла об Иисусе: «Пасха наша» (1 Кор 5:7). Готов держать пари, что какой-нибудь ранний христианский проповедник на богослужении в синагоге, возможно, в преддверии праздника Пасхи, сослался на Павла – и в своей проповеди о Христе по-новому истолковал пасхальные символы в свете опыта Иисуса. Если бы меня попросили воссоздать эту проповедь, то, на мой взгляд, в нее могли входить такие параллели:
• Иисус и пасхальный агнец были принесены в жертву;
• Кровью одного были помазаны дверные косяки еврейских домов; кровью другого – крест меж землей и небом, притолока мира;
• Кровь обоих имела власть избавлять от смерти.
Видимо, подход проповедника был примерно таким: «Те из нас, кто подходит к Богу под защитой крови новой пасхальной жертвы, теперь осознают, что больше незачем бояться смерти. Иисус позвал нас за собой в бесконечность вечно живущего Бога. Последний враг, о котором говорил Павел, повержен. У смерти больше нет власти над ним, а значит, и над теми из нас, кто был покрыт кровью, отмечавшей его смерть. Он жив был в Боге, а значит, так можем и мы».
В Пасхе выразилась главная истина, которую первые христиане обрели в Иисусе – он жил так, что перед ним в ужасе отступили даже силы смерти
Так Распятие стали толковать через опыт Пасхи. Когда история Страстей наконец обрела письменную форму, начали говорить, что она случилась в дни Пасхи. Авторов Евангелий заботила не историческая хроника, а проникновение в опыт встречи людей с Иисусом, который заставил их видеть даже в его смерти власть достаточную, чтобы уничтожить смерть как таковую и дать человечеству возможность перейти на новый уровень сознания. По-видимому, именно это и сделал опыт Иисуса.
Евангелия были написаны, чтобы позвать нас к новой жизни с Иисусом – к жизни, где смерть не властна, – и к новой человечности, способной достичь запредельного. Увидев Распятие вовлеченным в орбиту Пасхи и осознав, что в Иисусе видели пасхального агнца, мы вступим в совершенно новое измерение того, что значит Иисус и того, что значит быть человеком. И это откроет нам дверь в новое христианство.
15 Иисус в символике Йом-Киппура
Детали Распятия – не история. Иисус не стал исключением из правил: на кресте ему перебили ноги, как их перебивали всем. И не кричала толпа, требуя его казни. И не было никакой драмы с освобождением Вараввы.
Посещавшие синагогу ученики Иисуса обнаружили, что их опыт встречи с Иисусом постоянно толковали в смыслах еврейского богослужения. Поэтому увидеть Иисуса сквозь призму иудейской Пасхи, как мы это сделали в предыдущей главе, – значит совершить первый важный шаг в попытке отделить миф от человека. Однако он не должен стать последним. Постепенно обретая новое и более чувствительное зрение, мы идем дальше, чтобы снова убедиться в том, что, помимо Пасхи, память об Иисусе до написания Евангелий в значительной мере формировалась под влиянием еще одного особенного дня в еврейском литургическом календаре, известного как Йом-Киппур, или День Искупления. Да, слову «искупление», взятому из названия этого еврейского праздника, суждено было стать именем важнейшей доктрины, своего рода краеугольного камня в христианском богословии, скрепляющего все его элементы – от крещения до евхаристии – на основе трактовки Иисуса как искупителя. Многие даже понятия не имеют о том, как это слово проникло в христианскую традицию. И в этой главе я надеюсь пролить свет на утраченную связь.
Как только Иисуса отождествили с жертвенным агнцем Пасхи, представляется почти неизбежным, что скоро его начали отождествлять еще с одним жертвенным ягненком, игравшем роль в другом еврейском религиозном празднике. Такую возможность дал Йом-Киппур. Параллели выглядели и последовательными, и очевидными. Как пасхальный агнец, так и ягненок Йом-Киппура закалывались. Оба они, как считалось, приносили своего рода «избавление» через пролитие крови. Кровь пасхального агнца взывала к страху людей перед смертью. Кровь жертвенного ягненка Йом-Киппура – к глубинной потребности человека в единении с Богом, а также к сознанию того, что это единение подрывалось чувством отчуждения, вины и греха. Обе эти литургические практики стали теми средствами, благодаря которым еврейский народ видел в смерти жертвенного животного символическую дверь в новый путь к единству. Так обратим внимание на Йом-Киппур и постараемся понять, почему первые ученики Иисуса считали уместным выражать обретенный в нем смысл сквозь призму этого еврейского религиозного праздника.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
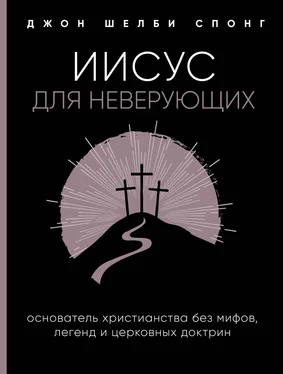
![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)