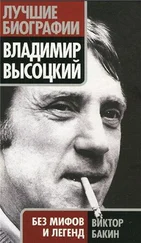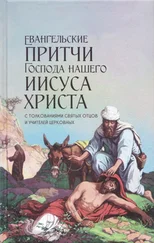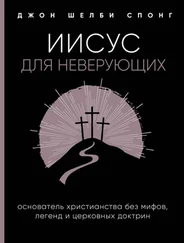Как бы Иисус на самом деле ни воспринимал Бога, реальность Бога со всей силой заявляла о своем присутствии в его жизни. В его учении Бог сравнивается с множеством самых обычных, подчас даже прозаических символов: Бог – отец, встретивший с распростертыми объятиями вернувшегося домой блудного сына (Лк 15:11–32), пастух, ушедший на поиски заблудшей овцы (Лк 15:3–7), или женщина, старательно подметавшая пол, пока не нашла потерянную монету (Лк 15:8–10). Бог, которого, судя по всему, знал Иисус, принимал всех такими, какие они есть (Мф 11:28). Те, кто ищет путь к Богу, могут шуметь, как докучливая вдова, которая не переставала стучать до тех пор, пока все ее просьбы не были удовлетворены (Лк 18:1–8). Но они могут походить и на тех, кто в тайниках сердец хранит прощение, полное столь беспредельной доброты, что оно простирается в вечность (Ин 8:1–11). Его ученики, должно быть, принимали участие во всех этих событиях.
Тем, кто его знал, Иисус казался столь неординарным, что это побудило их приписать ему власть над силами, перед которыми большинство людей чувствовали себя беспомощными. Должно быть, по этой причине в ту эпоху, когда чудеса казались чем-то заурядным, вокруг него стали складываться разного рода сверхъестественные легенды. Возможно, окружавшие Иисуса люди так привыкли постоянно утолять свой духовный голод из его глубинных тайников, что стали воображать себе массы людей на великом духовном пире, где еды всегда было больше, чем они могли съесть или переварить, сколь бы огромной ни была толпа (Мк 6:35–44; Мф 14:13–21; Лк 9:10–17; Ин 6:1–14).
Ученики также видели в Иисусе человека с особой миссией. Они не были уверены, в чем именно та заключалась, однако ее реальность не вызывала никаких сомнений. Мир, похоже, всегда почтительно отходит в сторону, а воды расступаются перед теми, кто знает, куда лежит их путь. Идея, что его «час» еще не пришел или что он наконец настал во время Распятия – примечание, нередко сопровождающее евангельские тексты (Мк 14:41; Мф 26:45; Лк 22:53; Ин 2:4). Этот особый «час» так или иначе связывался в умах последователей с тем, что у древних евреев называлось «Днем Господним». Данная связь только усиливала мистическое восприятие Иисуса и со временем привела к тому, что с его именем стали связываться мессианские ожидания, обнаруживаемые во многих местах еврейских Священных Писаний. Совершенно ясно: Иерусалим влек Иисуса, как магнит, и его «час» должен был наступить именно в Святом городе. В некотором роде основные темы, вокруг которых вращались воспоминания о нем, такие как его «час», «День Господень» и сам Иерусалим, были неразрывно связаны в сознании Иисуса. А само его присутствие было исполнено и очарования, и тайны.
Все эти темы объединило Распятие Иисуса в Иерусалиме. Это было и самым ранним, и вместе с тем самым сокрушительным воспоминанием, жесточайшим ударом по надеждам последователей. Его смерть, казалось им в порыве глубокого горя, была не чем иным, как кратким и решительным «нет», произнесенным Богом как приговор его жизни. Мессия не мог умереть. Евреи никогда не думали, будто Мессия может умереть. И когда Иисуса казнили, любые ассоциации между Иисусом и обетованным Мессией рассыпались в прах, и, по-видимому, навсегда. Иисус, всегда стойко противостоявший духовной иерархии, умер – и притом позорной смертью: Тора называла «проклятым» того, кто был повешен на дереве (Втор 21:23). Религиозные лидеры оказались победителями, а Иисус – проигравшим. Ученикам Иисуса пришлось смириться с этими, казалось бы, неизбежными выводами. Раз Иисус был мертв, то, по-видимому, Бог Отец на небесах не счел нужным его спасти. Ученикам оставалось лишь предположить, что Иисус ошибался, возможно, был введен в заблуждение, а раз он оказался не прав, то, значит, и они тоже. «Нас обманули», «мы заблуждались», «мы сами виноваты», – такими словами пришлось им себя корить.
Но такого объяснения не хватало. Внутренний конфликт в учениках никуда не исчез. Реальность смерти Иисуса по-прежнему противоречила реальности их жизни рядом с ним. Как Бог мог сказать «нет» вести Иисуса, несущей лишь любовь и прощение? Как Бог мог проклясть того, чья жизнь переступала любые границы и усиливала человеческое начало во всех Божьих творениях? Как Иисус мог быть силой жизни в самом глубинном смысле этого слова – и не быть при этом исполнителем воли Божьей? Возможно ли отдать другим свою жизнь и любовь так свободно – и в то же время быть виновным в преступлении, караемом смертной казнью? Картина никак не складывалась, и ничто не могло разрешиться. Смятение и душевная мука, вызванные Распятием у учеников, были жестоки и нескончаемы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
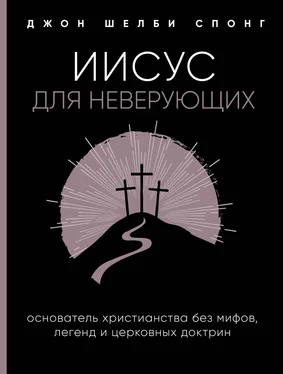
![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)