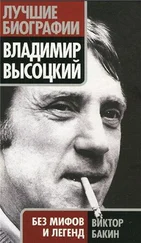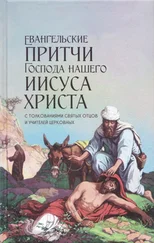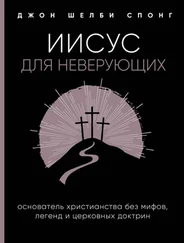Еще один барьер рушится в более ранней истории из Книги Деяний (8:26–40), когда диакон Филипп окрестил эфиопского евнуха. Этот человек был двойной угрозой религиозным правилам того времени: он был мало того что нечистым язычником, так еще и кастратом, что делало его вдвойне неприемлемым. В Законе Моисеевом написано: «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне» (Втор 23:1). Обратите внимание: в данном тексте нет никаких оговорок или двусмысленности. Это то, что люди, цитирующие Библию в защиту своих предрассудков, обычно называют «ясным и непреложным словом Божьим». Смысл этих слов для учеников был совершенно очевиден. Тем не менее Филипп открыто пренебрег законом и окрестил кастрированного евнуха, снова бросив вызов религиозным правилам от имени более высокой человечности – поступок, к которому привело то, что он понял значение Иисуса.
Другие барьеры, которыми из страха окружали себя последователи Иисуса на протяжении всей истории, также обречены были со временем пасть. В каждом новом поколении ученики Иисуса боролись против своего же менталитета выживания. Можно даже рассматривать христианскую историю как непрестанное сражение между религиозными правилами вчерашнего дня и свободой, постоянно проистекающей от Иисуса из Назарета. Хотя жертвы в течение веков меняли облик, барьеры, препятствовавшие признанию их полной человечности, преодолевались снова и снова. Тут можно было бы привести истории умственно больных людей, афроамериканцев, евреев, левшей, гомосексуалистов и лесбиянок. Всем им пришлось ощутить на себе жало религиозного отвержения, но каждая из этих преград со временем пала перед лицом той власти, которую люди испытали в Иисусе. Бог – не небесный судья. Бог – жизненная сила, расширяющая границы человечества изнутри, пока оно не станет свободным от любых барьеров. Вот Бог, открывшийся в полноте человечности Иисуса. Вот новое определение Бога, смещающее фокус нашего восприятия с внешней силы на нечто в самом сердце жизни. Бытие этого Бога призывает нас быть самими собой, его жизнь призывает нас жить, любовь к нему призывает нас любить. Иисус жил жизнью Бога. Поэтому мы провозглашаем, что в его жизни мы встретились с самим Источником жизни. В его любви мы встретились с самим Источником любви. В его отваге, позволившей ему быть полностью человеком, мы встретились с самой Основой бытия. Вот тот опыт, для передачи которого возникло слово «воплощение». Это не доктрина, которой следует верить, а присутствие, постигаемое на опыте.
Не кто иной, как Дитрих Бонхеффер, первым придумал фразу «христианство без религии» [84] «Письма и записки из тюрьмы» (“Letters and Papers from Prison”, p. 219). Детали см. в библиографии.
. По словам Бонхеффера, когда человечество «достигнет совершеннолетия», то есть разовьет в себе способность отказаться от внешнего сверхъестественного Бога-Отца теистической религии, тогда и забрезжит новая заря в человеческом сознании. Слишком долго теистический Бог делал нас слепыми к Богу жизни, любви и бытия, рожденного из самого сердца человеческой жизни – и именно он представляет собой всю глубину и конечный смысл опыта Иисуса.
Вот так Христос призвал меня за пределы любых барьеров, сковавших нашу человечность и ее потенциал. Иисус божествен не потому, что через его жизнь в наш мир вошел надмирный Бог, как то утверждала традиционная христология. Нет, он божествен потому, что его человечность и его сознание отличались такой полнотой и цельностью, что он смог стать проводником смысла Бога и открыть людям глаза на высшее измерение жизни, любви и бытия, которое мы и называем Богом.
Вот основание для христологии будущего. Быть христианином, опять же по словам Бонхеффера, не обязательно значит быть религиозным; это значит быть цельным. Иисус – живой образ такой целостности, и потому в своей совершенной человечности он служит для меня окончательным проявлением Бога.
25 Крест: наш образ любви Божьей
Мир, похоже, всегда почтительно отходит в сторону, а воды расступаются перед теми, кто знает, куда лежит их путь.
Совершая смелый поступок, от смелости не дрожишь.
Прежде чем я смогу завершить новый портрет Иисуса за гранью религии – по крайней мере, в ее традиционном понимании, – я должен снова вернуться к кульминационному моменту, находящемуся в центре всей христианской истории. Каково подлинное значение Креста на Голгофе? Почему, как поется в наших гимнах, мы находим место, чтобы «встать» вблизи него, или видим в нем свою «славу»? [85] Я думаю о таких гимнах, как «Вблизи Креста Христова» и «Во Кресте Христовом слава». Это номера 341 и 336 в Сборнике гимнов Епископальной церкви 1940 года.
В чем смысл Креста и как его понимать? Очевидно, что прежний взгляд на Крест как на место, где была уплачена цена за наше падение, не соответствует истине. Оно лишь поощряет чувство вины, оправдывает потребность в божественном наказании и подпитывает скрытый садомазохизм, державшийся с таким упорством много веков. Традиционное понимание Креста Христова утратило силу на любом уровне. Я уже отмечал: благодарность за спасение не обернется цельностью натуры, и те непрестанные изъявления благодарности, которые, как кажется, поощряет история Креста, могут привести только к слабости и детской зависимости. От нас требуют превозносить в литургиях величие Бога, в то же время смирившись с убожеством человеческого существования и ценой, заплаченной за спасение «столь жалкого человека, как я». Но едва ли возможно прочесть историю Иисуса, не рассматривая Крест как момент наивысшего откровения. И возникает настоятельная потребность выйти за рамки устаревших объяснений и попытаться выделить тот опыт, который люди обрели с Распятым. Именно этот опыт, как я полагаю, вдохновил рассказы о Воскресении и оказал влияние на формирование христианской евхаристии. Задача такого истолкования требует избавиться от представления о теистическом божестве, которому Иисус, как говорили, был послушен до смерти, – и выявить ту преображающую жизнь силу, которая была в Распятом. Это наша последняя задач а.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
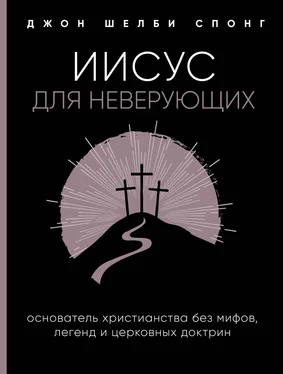
![Автор неизвестен Эпосы, мифы, легенды и сказания - Самые лучшие английские легенды [The Best English Legends]](/books/34729/avtor-neizvesten-eposy-mify-legendy-i-skazaniya-s-thumb.webp)