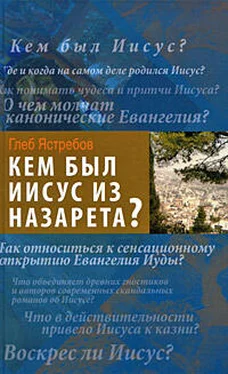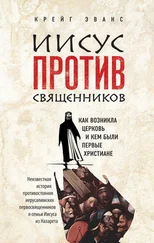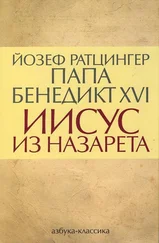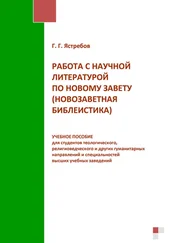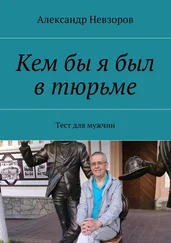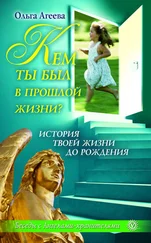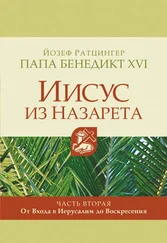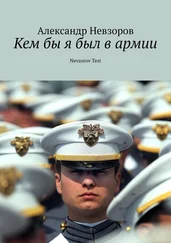Мк 14:3–9; ср. Ин 12:1–8
В пользу историчности этого эпизода говорит тот факт, что независимая его версия содержится в Евангелии от Иоанна (Ин 12:1–8). Иоанн датирует эту сцену не двумя, а шестью днями до Пасхи (что несколько менее вероятно, но принципиальной роли не играет); мы также узнаём, что женщина, о которой идёт речь, — не кто иная, как Мария, сестра Марфы и Лазаря, одного из друзей Иисуса, а значит, видимо, та самая Мария, которая восседала ученицей у ног Иисуса (Лк 10:38–42; см. выше главу 6).
Сцена, которую приводят Марк и Иоанн, весьма необычна. Любопытна реакция учеников. Во-первых, по обычным патриархальным нормам само появление женщины на мужском обеде было предосудительно. Однако об их возмущении ничего не сказано, и мы уже можем догадаться, почему: за время проповеди они привыкли к более высокому статусу женщин. Во-вторых, заметны плоды, какие принесла проповедь Иисуса против богатства и чинопочитательства: при всём своём почтении и даже благоговении к Иисусу они открыто высказывают мнение, что подобное поведение женщины неправильно и нарушает заповедь жертвовать деньги на бедняков. (Возьмём для сравнения современный аналог: далеко не все традиционные, скажем, православные и католики осмелятся напрямую критиковать излишнее проявление почтения к своему духовному отцу при нём самом!) Эта мелкая деталь показывает, что Иисус не строил своё руководство Двенадцатью на авторитарных началах: реакция учеников имплицитно предполагала и недовольство им самим, коль скоро он не остановил Марию.
Ряд учёных, впрочем, считают поведение женщины неправдоподобным, и особенно неправдоподобным ответ Иисуса, который, в сущности, снова предсказывает свою смерть. Однако, если избавиться от навязчивого желания истреблять из исторической реконструкции все сцены, в которых тот или иной персонаж выказывает способность предвидеть ближайшее будущее, мы увидим, что ситуация правдоподобна. Вполне можно представить, что в то время, как ученики находились в некоторой эйфории по поводу близящегося Царства, от Марии, верной ученицы Иисуса, не укрылась перемена, происшедшая в нём. (Как женщина, она могла ещё и лучше чувствовать его эмоциональное состояние.) Нет ничего невероятного в том, что она сопоставила горькие намёки, проскальзывавшие в речах Иисуса, с очевидной, угрожающей ему опасностью и высказала свою любовь и тревогу единственным доступным ей способом. (Интересно, кстати, откуда вообще она взяла такие дорогие благовония? Будучи бедной женщиной, она не могла их купить и даже заработать на них. Возможно, кто-то из богачей пожертвовал его специально на нужды Иисусова движения.)
Строго говоря, ни из чего не видно, что Иисус вполне одобрял такую трату денег. Но он не стал останавливать женщину, а когда её стали ругать, заступился за неё. (Это уже второй известный нам случай, когда он заступался за эту женщину! Первый был в Лк 10:38–42, когда она хотела слушать учение Иисуса, а сестра гнала её на кухню.) Почему? Почему в этот раз он не стал ей препятствовать и объяснять про необходимость скромности и необходимость направлять все свои силы на почитание Бога, а не человека? Рискнём высказать предположение. В эти последние дни Мария оказалась единственной, кто понял (или почти понял), что у него на душе. Эта связь была ему дорога и была ему опорой.
О последнем дне жизни Иисуса мы знаем больше всего: ночная трапеза с учениками, молитва в Гефсимании, предательство Иуды, арест, суд, распятие, погребение... Для историка, однако, здесь присутствует целый ряд проблем. Какие детали повествования более достоверны, а какие менее достоверны? Например, учреждал ли Иисус на тайной вечере обряд Евхаристии? Почему Иисуса предал Иуда, и какая судьба постигла Иуду? Какие обвинения были предъявлены Иисусу на суде? В какой степени можно верить рассказу о погребении? В данной главе мы попытаемся ответить на эти и некоторые другие вопросы.
В самом факте, что ночью перед казнью Иисус вкушал последнюю трапезу с учениками, сомнений нет: он засвидетельствован в нескольких ранних независимых источниках (Павел — 1 Кор 11:23–25; Марк — Мк 14:17–26; Иоанн — Ин 13–17). Первую проблему, однако, создаёт противоречие между евангелистами .
• Синоптические Евангелия (Марк, Матфей, Лука): последняя трапеза была пасхальной и имела место 15-го нисана (Мк 14:1, 12, 17). Это означает, что на тайной вечере (как в последующие века стали называть данную трапезу) Иисус с учениками наряду с другими своими соотечественниками праздновали освобождение, которое некогда принёс Бог их предкам от египетского рабства. Это также означает, что, зная особенности традиционного иудейского пасхального седера (евр. «седер», «чин»), мы можем восстановить недостающие детали тайной вечери. Это также означает, что символические действия Иисуса с хлебом и вином необходимо рассматривать в свете пасхальной тематики.
Читать дальше