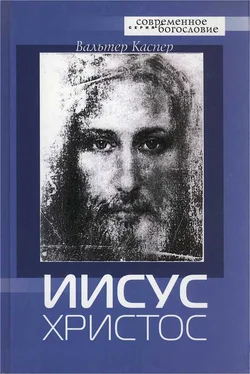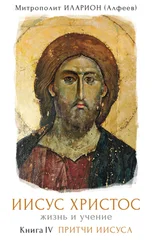Сами богословы, такие, как ученик Оригена Григорий Чудотворец на Востоке, или Иларий на Западе, видевшие ограниченность этих высказываний, не могли объяснить глубины страданий. Они приводили следующие аргументы: неспособность к страданию свидетельствовала бы об ограниченности и несвободе Бога; следовательно, Бог должен обладать способностью страдать; но Бог страдает добровольно, страдание не навязывается ему с неизбежностью; таким образом, в страдании он владеет самим собой. Итак, страдание — это его сила, его триумф. Страдание сопровождалось sensus laetitiae. Этот образ скорее соответствует страдающему праведнику у Платона, который счастлив, даже если его пытают и если у него выкалывают глаза [415].
Прорывом во всем этом метафизически обоснованном богословии было только богословие креста (theologia crucis) Лютера. Исходя из креста, он пытается последовательно размышлять о Боге, а не наоборот, размышлять о кресте, исходя из философского понятия Бога. Программно это выражено в тезисах Гейдельбергского диспута 1518 года: «Non ille digne Theologus dicitur, qui invisibilia Dei per ea, quae facta sunt, intellecta conspicit, sed qui visibilia et posteriora Dei per passiones et crucem conspecta intelligit» [416]. Сокрытая тайна Бога не является потусторонней; этот потусторонний Бог умозрения нам совсем не доступен: сокровенный Бог для Лютера — это сокровенный Бог страдания и креста. Мы не должны вторгаться в тайну Божьего величия, а должны ограничиваться образом Бога на кресте. Иным путем, чем во Христе, мы Бога найти не можем; тот, кто хочет найти Бога вне Христа, находит дьявола. Исходя из этого, Лютер приходит к преобразованию христологии. Хотя он и принимает древнецерковную христологию, он все же придает ей новый акцент. Его не интересует вопрос, объединимы ли понятия Бога и человека; что есть Бог и человек, выявляется только во Христе. Таким образом, все высказывания о божественной природе переносятся на человеческую; человечество Христа прежде всего принимает участие во всеприсутствии божества. Но и божество, наоборот, принимает участие в униженности человечества, в его страданиях и смерти.
Правда, здесь возникают проблемы, которые Лютером разрешены не были. Ибо, если человечество причастно к свойствам величия Бога, как можно тогда еще сохранить подлинную человечность Иисуса? С другой стороны, если божество входит в страдания, как следует тогда понимать богооставленность Иисуса на кресте? Таким образом, лютеровское богословие креста с трудом соответствует историческому образу Иисуса, представленному в Писании. Оно вновь ставит нас перед задачей размышлять о бытии Бога радикально христологически; но оно показывает нам также и апорию, в которую тем самым впадает богословие.
Обзор традиции показывает, что Никео–Копстаитипопольское исповедание Иисуса Христа как истинного Бога вовсе не исчерпано. Это исповедание и поныне является для богословия скорее неразрешенной задачей. Необходимо подвергнуть идею и понятие Бога и его неизменности новой основательной христологической интерпретации, чтобы таким образом вновь выявить библейское понимание Бога истории.
В этом направлении П. Шоненбергом недавно была предпринята заслуживающая похвалы, однако неудачная попытка [417]. Он исходит из принципа, которым руководствовались и наши прежние рассуждения: «Все наше мышление движется от реальности к Богу и никогда не может двигаться в обратном направлении… Мы вовсе не выводим Христа и дарованного нам Духа из Троицы, но всегда наоборот». Для Шоненберга это означает, что «содержание божественного предсуществования Христа следует определять только его земной и прославленной жизнью» [418]. Однако из этой правильной посылки он заключает, что мы не можем ни положительно, ни отрицательно ответить на вопрос, является ли Бог — независимо от его самовозвещения в истории спасения — триединым. Согласно ему, выведение внутрибожественной Троицы из исторического откровения Троицы было бы только тогда возможно, «когда отношение между неизменностью Бога и его свободным самоопределением было бы доступно нашему разуму. Но поскольку это не так, вопрос остается без ответа и на него невозможно ответить; тем самым он выпадает из сферы богословия как бессмысленный». Однако насколько фактически невозможно воздержаться от ответа на этот вопрос, показывает позднее сам Шоненберг: «Таким образом, различие между Отцом, Сыном и Духом, с точки зрения домостроительства спасения, следует считать персональным, с точки же зрения внутрибожественной — в высшей степени модальным» [419]. Вопреки своей первоначальной сдержанности, Шоненберг характеризует модалистическое учение о Троице как истинное, поскольку оно имеет отношение к самому внутрибожественному бытию. Противоречие с принципами, выдвинутыми самим автором, слишком очевидно.
Читать дальше