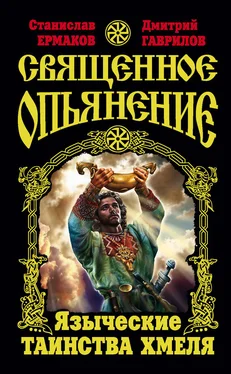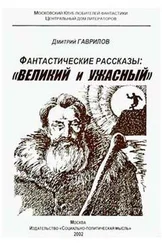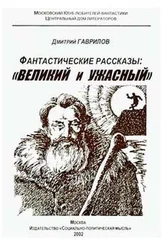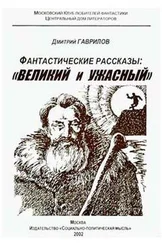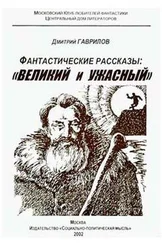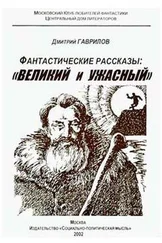«Древние россияне при брачных сочетаниях поступали следующим образом: перед поездом в церковь жених садился с невестою рядом или на соболи или на какой-нибудь другой мех; сваха чесала им головы, обмакивая гребень в меду или в инее, которое держал нарочный в ковше. Потом осыпали их осыпалом, то есть деньгами или хмелем, тут же зажигали брачныя свечи, которыя бывали с лишком по пуду, смотря по состоянию новобрачных, а для зажигания употребляли особую Богоявленскую свечку. В церковь возили с собою вино в стеклянице, и когда священник давал пить жениху и невесте, то при последнем разе жених разбивал стекляницу с оставшимся вином об пол и топтал бутылку ногою. Брачныя свечи скатывали потом вместе, ставили в кадку с пшеницею и оставляли на целый год в сеннике, у изголовья постели» (Бурцев, 1898).
Еще одним языческим элементом свадебных обрядов можно считать принятое посещение брачующимися могил предков. Первое свидетельство о таком обычае оставил Джильс Флетчер, который приехал в Россию в ноябре 1588 г. в качестве посланника английской королевы Елизаветы к царю Феодору Иоанновичу: «По окончании этих обрядов жених берет невесту за руку и вместе с ней и родными, которые за ними следуют, идет на паперть, где встречают их с кубками и чашами, наполненными медом и русским вином. Сперва жених берет полную чарку, или небольшую чашку, и выпивает ее за здоровье невесты, а за ним сама невеста, приподняв покрывало и поднося чарку к губам как можно ниже (чтобы видел ее жених), отвечает ему тем же» (Флетчер, 2002).
Михаил Забылин, видный знаток русской старины и собиратель славянских древностей уточняет о ходе свадебного пиршества: «У богатых за каждым кушаньем, бывает круговая подача вина всем застольникам, у людей среднего состояния через кушанье, а у бедных только три раза, в начале, в середине и в конце стола. Но пиво и брага непременно подаются дружками всем за каждым кушаньем. Вином всегда угощают сами молодые; для этого они за каждой круговой встают на ноги: молодой наливает рюмку вина из штофа, а молодая подносит ее на тарелке. За каждой новой круговой гости не пьют до тех пор, пока молодые не изопьют сами вина…» (Забылин, 1880, с. 153).
Подобное отмечено и у белорусов: «Мед быў абрадавай стравай при сватаўстве i вяселлi, тыя ж функыi ен выконваў i пры нараджэннi (iм частавалi жанчыну, якая станавiлася мацi)» (Цiтоў, 2001, с. 157).
Для поминовения же усопших в северной полосе зоны рискованного земледелия (то есть там, где невозможно выращивание винограда) издревле использовали крепкие (возможно, «горькие») напитки, в первую очередь «горелку» (украинск. горiлка). М. Фасмер справедливо возводит название напитка к «горению»: «Образовано аналогично польск. форме gorzaŧka, ср. чеш., слвц. pálenka от páliti; под влиянием нем. Branntwein «водка» от brennen «жечь» и Wein «вино», потому что этот напиток первонач. приготовлялся из вина». Относится ли название «горiлка» к способу приготовления, собственному горению напитка или к обжигающему действию на слизистую оболочку рта, однозначно сказать трудно.
Можно даже с известной долей риска допустить, что понимание Того Света как пекельного или огненного царства или прохождение тела и мертвеца в буквальном и переносном смысле чрез огонь (в период кремации или прижигания-припекания трупа) обусловили в конечном счете выбор в пользу данного горячительного (горького) напитка. Находящиеся на тризне, поминках, а затем на Деда́х, таким образом, как бы прикасались к потустороннему миру и его огню. Неудивительна в таком случае и этимологическая связь между словами «горе», «горечь» (утраты) и «горение». Опять же у Фасмера: «Го́ре. Укр. го́ре, ст. – слав. горе, сербохорв. го́ра «падучая болезнь», словен. gorjĕ «горе, плач», чеш. hoře – то же, др. – польск. gorze. K горе́ть. Ср. др. – инд. зṓkas «пламя, жар», также «мука, печаль, горе», нов. – перс. sōg «горе, печаль»… Менее вероятно сравнение с гот. kara «жалоба, скорбь».
Водка в погребальной обрядности служила ритуальным угощением не только родичам покойного, но и тем, кто принимал участие в подготовке похорон, включая самых бедных и неимущих членов сообщества. Обычай звать нищих для того, чтобы те обмыли труп, разные исследователи отмечают еще в начале XX в., в 1912–1915 гг. на Украине: «За это они получают от хозяина по чарке или по две горилки и закуску, которая состоит, как правило, из хлеба, соли, чеснока или лука». По трем коротким ударам колокола в селе узнавали, что кто-то умер. Любой из родни или знакомых при этом оставлял свои дела и шел в дом покойного человека, «потому что знал, что при этом выпьет чарку или две, а то и три горилки и что перекусит, – потому что так принято» (Лащенко, 2006, с. 19).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу