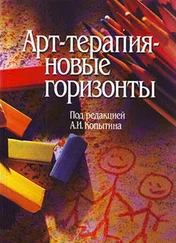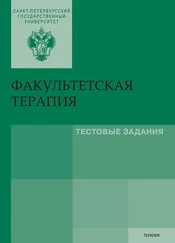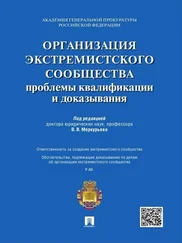Как и многие иные явления культуры и цивилизации, фотография, с одной стороны, регулирует и поддерживает сложившуюся в умах и обществе систему гендерных отношений и, с другой стороны, является инструментом, используя который, эту систему можно трансформировать. Применительно к практической психологии и психотерапии ее позитивная трансформирующая роль очевидна.
Ашастина Е. Р. Работа с образом дома: фотография в психотерапии женщин // Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике / Под ред. А. И. Копытина. М.: Когито-Центр, 2006. С. 132–161.
Копытин А. И., Платтс Дж. Руководство по фототерапии. М.: Когито-Центр, 2009.
Мартин Р. Наблюдение и рефлексия: отреагирование воспоминаний и представление будущего посредством фотографии // Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике / Под ред. А. И. Копытина. М.: Когито-Центр, 2006. С. 80–99.
Хоган С . Проблемы идентичности: деконструирование гендера в арт-терапии // Хрестоматия: арт-терапия / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2001. С. 26–39.
Элдридж Ф. Шоколад или говно: эстетика и культурная нищета в арт-терапевтической работе с детьми // Исцеляющее искусство: журнал арт-терапии. 2000. Т. 3. № 3. С. 35–52.
Barthes R. Camera Lucida. Reflections on photography. N. Y.: Hill and Wang, 1981.
Berman L. Beyond the smile. The therapeutic use of the photographs. London: Routledge, 1993.
Betterton R . An intimate distance: women, artists, and the body. London: Routledge, 1996.
Entin A . Family icons: photographs in family psychotherapy // The newer therapies. A sourcebook / Eds. L. E. Abt and I. R. Stuart. N. Y.: Van Nostrand Reinhold, 1992.
Krauss D. A. A summary of characteristics of photographs which make them useful in counseling and therapy // Camera Lucida. 1980. 1 (2). P. 7–11.
Krauss D. A. and Fryrear J. L. Phototherapy in mental health. Springfield, Il.: Charles C. Thomas, 1983.
Spence J. Putting myself in the picture. London: Camden Press, 1986.
Wadeson H., Durkin J. and Perach D. (Eds) Advances in art therapy. N. Y.: Wiley, 1989.
Weiser J. Phototherapeutic techniques: exploring the secrets of personal snapshots and family albums. San Francisco: Jossey-Bass, 1993.
Zilbach J. J. Young children in family therapy. N. Y.: Brunner/Mazel, 1986.
Психологическое самоисследование на стыке теории искусства и арт-терапии
В. Мусвик
«Я бы хотел, чтобы мне сказали: „Давайте работать с нами“, а не слышать, как порою случается: „Вы мешаете нам работать“». Это слова из интервью одного из основоположников постмодернистской гуманитарной мысли Мишеля Фуко (Фуко, 2008). В нем Фуко, на собственном опыте столкнувшийся с французской системой лечения и профилактики душевных болезней, предпринял попытку объясниться с «заинтересованными лицами» по поводу исследования их профессиональной области. Называя свои предыдущие работы по этой теме (книги «История безумия в классическую эпоху», «Рождение клиники» и «Ненормальные») «фрагментами автобиографии» и утверждая, что они «всегда касались его личных проблем, относящихся к безумию, тюрьме, сексуальности», Фуко отметил: некоторые восприняли их как «своего рода выбор в пользу безумцев и против психиатров», но они «глубоко заблуждались» (с. 206–207).
Контакт между терапевтом-практиком и гуманитарием-теоретиком, к сожалению, чаще всего ограничивается подобным «обменом любезностями». Со времен Вильгельма Дильтея, назвавшего психологию основой всех «наук о духе» (Дильтей, 1996, 2000), филологи, искусствоведы, философы относились ко всему с приставкой «пси» со смешанными чувствами сильного интереса и крайнего недоверия. Методология гуманитарных наук вроде бы говорит о необходимости контакта с психологией; на деле же последняя выведена за пределы привычных рамок гуманитарного знания. Обращение к области психотерапии чаще всего сводится к достаточно вульгарно понятому психоанализу и паре «знаковых» имен (Фрейд, Юнг, Лакан). Достижения многих направлений психотерапии последних 30–50 лет (включая арт-терапию) попросту игнорируются.
Это тем более удивительно, что весь XX в. гуманитарии бьются над проблемой учета личного, человеческого аспекта опыта исследователя. Но даже так называемые «интуитивистские» гуманитарные стратегии (Перлов, 2007a, 2007б) чаще всего не решают этого вопроса. Несмотря на развитие новых направлений, к примеру, так называемого «life history research», использующих «личные истории», в том числе самого ученого, как источник знаний и напрямую ставящих проблематику саморепрезентации, идентичности, памяти и т. п., они так и остаются на кромке культурных исследований. Мы, современные гуманитарии, по большей части не умеем работать с иррациональным, а то и попросту беспомощно ужасаемся его наличию в себе (Gannon, 2006; King, 2000). Так возникает что-то вроде невроза современного гуманитарного знания, которое отражает и деконструирует некоторые «негармоничные» особенности современной культуры, но практически не учитывает ее «полезные», ресурсные части. К тому же, в отличие от психотерапевта, постоянно занимающегося самоисследованием (в том числе с помощью супервизий) и время от времени проходящего курсы личной терапии, исследователь-гуманитарий вовсе не обязан заниматься рефлексией личных или культурных основ собственной позиции. Кроме того, как считают некоторые авторы, в постмодернистской критике ему предписывается точка зрения «маргинальной жертвы» (Eshelman, 2002). Все это похоже на то, как если бы «непроработанный» терапевт ограничился анализом, разъял бы на части внутренний мир клиента, а потом сказал ему: «Что делать с вами дальше, я не знаю, и поэтому умываю руки».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу