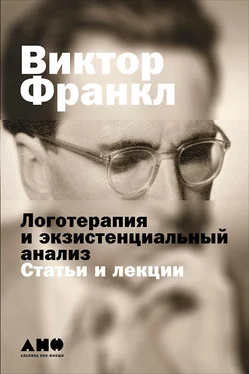К нам поступает мужчина в возрасте около 60 лет, страдающий от дефектного и конечного состояния после раннего детского слабоумия. Он слышит голоса, то есть испытывает акустические галлюцинации, он аутист, целыми днями практически ничего не делает, а только рвет бумагу. Таким образом, казалось бы, жизнь его совершенно бессмысленна. Если бы мы попробовали применить к нему систему «жизненных задач» по Альфреду Адлеру, то пришли бы к выводу, что наш пациент – так называемый идиот – не выполняет ни одной из этих задач. Он не ходит на работу, практически исключен из общества, о половой жизни, любви и браке в его случае также не может быть и речи, во всем этом ему отказано. Но все-таки какое своеобразное, причудливое обаяние исходит от этого человека, из самого сердца его человечности, которое оказалось не повреждено психозом. Мы видим перед собой не человека, а глыбу! В ходе одной из бесед он вдруг неожиданно вспыливает, но в последний момент овладевает собой. Тогда я спрашиваю его словно невзначай: «Ради кого же вы сдержались?» И он мне отвечает: « Ради Бога…» В этот момент мне вспомнились слова Кьеркегора: «Даже если само безумие будет держать у меня перед глазами шутовской колпак – все равно, даже в этом случае, я могу спасти свою душу, если любовь моя к Богу побеждает во мне». Только когда оказываешься перед необходимостью принять самую безутешную и беспросветную судьбу – «ради Бога», как показал нам своим примером наш пациент-«идиот» – лишь тогда можно сказать жизни «Да!» вопреки любым обстоятельствам, даже самым неприглядным и незавидным.
Перед нами прошла жизнь наших пациентов, а еще раньше пример того, как следует жить, нам показали пророки. Палестинские крестьяне библейской эпохи жили в совсем иных условиях, нежели пациент, страдающий от раннего детского слабоумия, люди, оказавшиеся узниками концлагерей или военнопленными. Этим крестьянам выпадали совершенно иные невзгоды, кризисы и катастрофы, нежели пограничные ситуации, приходившиеся на первую половину нашего столетия. Тем людям было не до неизлечимых психозов и не до рукописей, которые не удается опубликовать; они в прямом, а не в переносном смысле имели дело с пустыми амбарами и с неурожаями. И все-таки пророк Аввакум – во имя Бога – говорит жизни «Да!»: «И если бы смоковница не расцвела, и не было бы ни одной ягоды на виноградных лозах, и олива не принесла бы плодов, и нива не дала бы пищи, пускай ни одной овцы не осталось бы в загоне, и не было бы скота в стойле – но и тогда буду я ликовать и радоваться во славу Господа моего» [78].
IV. Логотерапия как специфическая терапия ноогенных неврозов
Неврозы не обязательно коренятся в области психического; они могут находиться и в другой сфере, значительно выходящей за пределы психического: в ноэтическом, то есть в области духовного. В случаях, когда этиология невроза в конечном итоге основана на духовной проблеме, моральном конфликте, либо связана с экзистенциальным кризисом, мы говорим о ноогенном неврозе.
Достигнув этого пункта наших рассуждений, мы усматриваем наряду с опасностью психологизма еще и опасность ноологизма.
Рядом со Сциллой психологизма нас подстерегает и Харибда ноологизма. В то время как психологизирующий проецирует из пространства человеческого в плоскость чисто психологического то духовное, которое может состояться как таковое лишь в духовном измерении, ноологизирующий интерпретирует телесное односторонне и исключительного как способ выражения духовного. Тогда как психологизм диагностирует любой невроз как психогенный – и, соответственно, ошибочно относит к этой категории и ноогенные неврозы, – ноологизм, в свою очередь, трактует любые, в том числе психогенные неврозы (равно как и соматогенные псевдоневрозы), как ноогенные. Если бы мы утверждали, что любой невроз является ноогенным, то впадали бы в заблуждение ноологизма; напротив, характеризуя любую экзистенциальную фрустрацию как нечто невротическое, мы впадали бы в заблуждение патологизма. Насколько нельзя считать, что любой невроз коренится в экзистенциальной фрустрации, настолько же и не любая экзистенциальная фрустрация патогенна. Итак, теперь понятно: мы ни в коем случае не настаиваем, что существуют лишь ноогенные неврозы. Обобщив это с вышесказанным, имеем: не каждая экзистенциальная фрустрация становится патогенной – и не любое невротическое заболевание является ноогенным. По статистике психотерапевтической амбулатории на базе неврологической клиники Тюбингенского университета ноогенными можно считать около 12 % зарегистрированных там случаев невроза (Ланген и Вольхард); по статистике женской клиники при Университете Вюрцбурга можно констатировать, что ноогенную природу имеет 21 % неврозов (Приль), в то время как руководительница Венской неврологической поликлиники в своем статистическом отчете на материале неврозов пишет, что на ноогенные неврозы приходится 14 % всех случаев, плюс сверх того 7 % случаев легкой экзистенциальной фрустрации (Нибауэр). Итак, мы должны остерегаться не только патологизма, но и ноологизма, причем, если усматривать основу невротического заболевания лишь в духовной сфере человеческого бытия-в-мире и, соответственно, считать духовное единственной причиной такого заболевания, это и будет ноологизм. Таким образом, не всякий невроз является ноогенным, не всякий невроз проистекает из конфликта с совестью или вырастает из-за ценностной проблемы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу