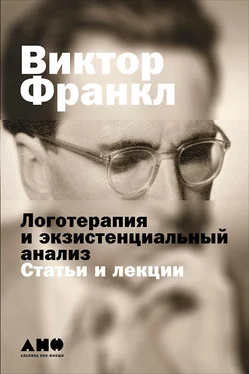Итак, попытаемся ответить на вопрос: можно ли истолковать смысл страдания? Здесь мы углубляемся в проблематику патодицеи, на которую будем ориентироваться вместо теодицеи, причем именно потому, что теодицея обречена на провал; ведь если, по аргументации теодицеи, страдание необходимо для очищения человека, а зло допускается Богом, чтобы на его фоне добро просматривалось еще более выразительно, то такая аргументация позволяет задать следующий вопрос, более глубокий, чем вышеприведенные основания и мотивы, а именно почему Бог всемогущий сразу не создал человека таким, чтобы он, человек, вообще не нуждался в очищении через страдание, а также не создал такого мира, в котором не нужны были бы вышеописанные контрасты?
Единственное приличествующее человеку отношение к проблематике патодицеи или даже теодицеи – это отношение Иова, склонившегося перед тайной, и вдобавок отношение Сократа, который хотя и признавался в знании, но лишь в знании того, что ничего не знает.
Однако может сложиться впечатление, как будто наши рассуждения касаются только философов и поэтов, а не самых обычных маленьких людей, таких как те двое солдат ООН, которые были ранены в Корее, а затем, находясь в госпитале, побеседовали с одним, я бы сказал, метафизически скандальным репортером, который спросил их, в чем они усматривают смысл своих ранений и страданий. Один солдат ответил: «Люди слишком много спрашивают», а второй сказал: «Господу виднее, как поступить с нами». Я считаю, что они ответили в иовическо-сократическом духе. Бывают такие вопросы, которые просто неверно сформулированы – и вера, затмевающая любой возможный ответ.
Все-таки кажется уместным прибегнуть хотя бы к иллюстрациям и аналогиям. В качестве такой аналогии напрашивается сравнение ситуации с золотым сечением. По правилу золотого сечения меньшая часть относится к большей точно так же, как большая – к целому. Итак, не аналогичное ли отношение возникает между зверем и человеком и человеком и Богом? Как известно, для зверя постижима только природа, тогда как человек «обладает миром» (Макс Шелер); но человеческий мир относится к высшему миру точно так же, как звериная природа – к человеческому миру. В то же время это означает: равно как зверь практически не в состоянии понять человека и человеческий мир с уровня своей природы, так и человек едва ли может заглянуть в высший мир, чтобы понять Бога и вообще проследить его мотивы.
Возьмем, к примеру, собаку; если ей указать куда-либо, то она смотрит не в направлении, куда указывает палец, а на сам палец, а то и пытается цапнуть за палец. Собака не может понять, что указательный жест – это символ. Но не то же ли самое происходит с человеком? Разве не бывает, что человек, увидев «знак» судьбы, выпадающий ему, не понимает этот знак, начинает спорить с судьбой? Он тоже «цапает ее за палец»…
Смысл «целого» – продолжая аналогию с золотым сечением – мы, люди, разумеется, не в силах постичь, как минимум мы не можем об этом думать, а можем лишь верить в это. Поэтому мы понимаем слова, произнесенные однажды Альбертом Эйнштейном на Принстонском теологическом семинаре: «Разум сам по себе не может разъяснить смысл конечных фундаментальных целей». Но мы вынуждены прибегать к вере, а не к «простому мышлению»; однако что же такое вера в конечном итоге, если не решительное узнавание – узнавание, само оказывающееся на чаше весов? Вера – это не мышление, уменьшенное с поправкой на реальность обдумываемого, а мышление, увеличенное с поправкой на экзистенциальность мыслящего.
К кому относится такое решение? Что решает такое узнавание? Является ли «целое» бытие бессмыслицей либо обладает сверхсмыслом [73]: стоит ли за ним какой-то смысл, выходящий за пределы наших конечных человеческих возможностей постижения? Причем речь идет о таком смысле, который включал бы в себя и, казалось бы, бессмысленные страдания. Такой смысл, естественно, был бы абсолютно невыразим словами, но что бы это в свою очередь означало? Там, где всех слов мало, даже одного слова слишком много.
Коль скоро физиология, рассматриваемая в контексте нашей трактовки измерений человеческого бытия-в-мире, открыта для психологии, а та, в свою очередь, – для, с позволения сказать, ноологии, понимаемой как рассмотрение человеческого бытия-в-мире через духовную экзистенцию, такой способ восприятия, а вместе с ним и экзистенциальный анализ должен оставаться открыт для того измерения, которое объемлет все предыдущие.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу