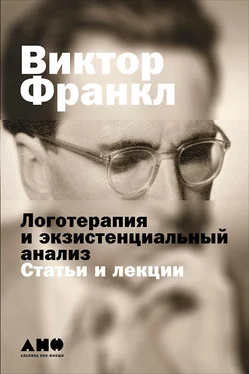Только на уровне высшего мира человеческое страдание обретает окончательный смысл, наполняется сверхсмыслом, выходящим за пределы всяческих возможностей человеческого восприятия.
Дело не в том, что мы, люди, должны принимать на себя бессмысленность бытия-в-мире – за что выступает французский экзистенциализм, а, скорее, в недоказуемости сверхсмысла, с которой нам приходится иметь дело [74].
Если вообще возможно задаваться вопросом о смысле, то следует ставить вопрос о смысле конкретной личности и конкретной ситуации. Вопрос о смысле жизни можно поставить только конкретно, и на него возможен лишь активный ответ. Если мы попытаемся обратиться к исходной структуре мировосприятия, то должны переосмыслить вопрос о смысле жизни в коперниковском ключе: сама жизнь ставит перед человеком вопросы. Человеку не о чем спрашивать, он сам держит ответ перед жизнью, несет ответственность перед ней. Однако ответы, которые дает человек, могут быть лишь конкретными ответами на конкретные «жизненные вопросы». Эти ответы даются в ответственности бытия-в-мире. В самой своей экзистенции человек «формулирует» ответы на ее вопросы.
Казалось бы, парадоксальный примат ответа над вопросом основывается на самоощущении человека, воспринимающего себя как ответчика. Но религиозный человек переживает бытие-в-мире не просто как конкретную задачу, но как личное поручение , которое дано ему личностью, то есть сверхличностью. Поэтому он воспринимает эту задачу как прозрачную, а именно трансцендентную; только он может «сказать жизни „Да!“» в любых условиях и обстоятельствах, вопреки всему, даже нужде и смерти.
Если смысловой вопрос ставится конкретно, то этот вопрос ситуативен; таким образом, вопрос касается лишь относительного смысла. Если бы смысловой вопрос относился к целому, то сразу стал бы бессмысленным. Человек не в состоянии ответить на вопрос об абсолютном смысле. Ведь поскольку целое как таковое является необозримым, смысл целого неизбежно выходит за границы возможностей человеческого постижения. Поэтому смысл целого невозможно ни высказать, ни хотя бы приблизительно указать – оно может быть выражено только как пограничное понятие, так что мы можем сказать: целое не имеет смысла – оно обладает лишь сверхсмыслом.
Осуществление смысла, который я могу себе вообразить, зависит от моего образа действий и бездействий: в зависимости от того, что я делаю или допускаю, что-то может произойти или не произойти; но сверхсмысл реализуется независимо от всех моих поступков; при моем содействии или без него, с моим участием или в обход моей деятельности. Короче говоря, история, в которой реализуется сверхсмысл, происходит либо благодаря моим действиям, либо на фоне моего бездействия.
Но мы должны верить не только в сверхсмысл (что логически неизбежно), но и в сверхбытие: такое бытие, в котором скрыто прошедшее так, что благодаря своему бытию-в-прошлом оно уберегается и спасается от прошлого; ведь прошедшее сохраняется в прошлом, там оно оказывается неподвластно прошлому, а мы сами возносим свершившееся в наше минувшее, запечатлевая его там. Теперь мы понимаем смысл изречения Лао-цзы: «Выполнить задание – означает увековечиться». Это справедливо не только для творческих ценностей, но и для ценностей переживания, которые, возможно, нам доведется реализовать. Ведь, как сказал поэт, «пережитое тобой у тебя не сможет отобрать никакая сила в мире». В конце концов, аналогичное утешение справедливо и в случае пережитых страданий.
Как правило, человек наблюдает лишь жнивье прошлого: перед ним открывается поле, уставленное амбарами с прошлым. В бытии-в-прошлом как раз ничего не теряется безвозвратно, а, напротив, все неистребимо сохраняется. Однако не только в творчестве мы наполняем амбары нашего прошлого, осуществляем смысл и реализуем ценности, но делаем это и в переживании, и в страдании. Страдание – это достижение. Смерть – это урожай. В действительности ни страдание, ни вина, ни смерть – ни один из компонентов этой трагической триады не может отнять у жизни ее смысл [75].
Если бы мы были бессмертны, то могли бы с полным правом откладывать любое дело на неопределенный срок, никогда бы не возникало необходимости сделать его прямо сейчас. Однако ввиду наличия смерти как непреодолимой границы нашего будущего и предела наших возможностей мы вынуждены использовать отмеренное нам время и не упускать выпадающих нам уникальных возможностей, тогда как вся жизнь представляет собой их «конечную» сумму.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу