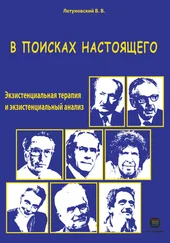Итак, приспособиться к мировоззрению мужа невозможно, считает женщина, это означало бы пожертвовать собственным «Я». Если бы пациентка не сделала такого замечания, то для психотерапевтической – в данном случае логотерапевтической – обработки такого невроза, явно ноогенного, возникшего из нравственно-духовного конфликта и поэтому требующего лечения именно исходя от духовного, было бы совершенно недопустимо усиливать тягу пациентки к тому или иному варианту, будь то подстраивание под мужа или самоутверждение ее собственного мировоззрения. Поэтому врач будет остерегаться любого навязывания собственного мировоззрения пациентке. Нельзя допускать «переноса» личного мировоззрения, собственной мировоззренческой иерархии на пациента! Логотерапевт уже потому будет остерегаться принимать на себя ответственность, которую пытается переложить на него пациент, что логотерапия является, в сущности, воспитанием ответственности [81]. Опираясь именно на такую ответственность, больной должен самостоятельно пробиваться к конкретному смыслу своего личного бытия-в-мире. «Так конкретное бытийное пространство, в которое оказывается „брошен“ человек, наполняется смыслом» (Пауль Полак) [82]. Экзистенциальный анализ должен привести человека к осознанию собственной бытийной ответственности; но сверх того экзистенциальный анализ ни в коем случае не должен сообщать ему конкретные ценности; следует ограничиваться лишь тем, чтобы помочь пациенту самостоятельно добиться реализации ожидающих его ценностей и смысла. Однако не может быть и речи о навязывании ценностных приоритетов и мировоззрения терапевта пациенту – то есть о мировоззренческом переносе. Итак, мы четко даем нашей пациентке понять: если она откажется от своих религиозных убеждений или перестанет следовать им на деле, то в таком случае пожертвует собственным «Я», поэтому я как врач вправе донести до нее, что невротическое заболевание есть не что иное, как результат угрожающего ей или уже свершившегося духовного насилия над собой.
Рассмотрим еще один случай: господин Штефан В., 58 лет, иностранец, дал слово своим друзьям, что только ради них не станет накладывать на себя руки прежде, чем побывает в Вене и поговорит со мной. Его жена умерла от рака восемь месяцев назад. После этого он попытался совершить самоубийство, несколько недель пролежал в стационаре. На мой вопрос о том, почему он вновь не попробовал покончить с собой, пациент отвечает: «Лишь потому, что у меня еще есть дело». Он считает, что должен присматривать за могилой жены. Я спрашиваю: «А кроме этого у вас есть какие-нибудь задачи, которые остается решить?» Он отвечает: «Все кажется мне бессмысленным, ничтожным». Я: «На самом ли деле так важно, кажется ли все это вам ничтожным? Не стоит ли задуматься о том, важно ли все это на самом деле? Вдруг ваше чувство утраты смысла обманчиво? Вы вправе чувствовать, что никто и ничто не заменит вам вашу жену; но вы обязаны дать себе шанс хотя бы однажды прочувствовать все по-другому и постараться понять, что вы будете ощущать в этот момент». Он: «Я больше не могу найти никакого вкуса к жизни». Я обращаю его внимание на то, что потребовать от него этого было бы слишком, и вопрос в том, чувствует ли он обязанность вопреки всему жить дальше. Он спрашивает: «Обязанность?.. Это просто слова. Все бесполезно». Я: «Разве для мертвых – то есть для тех, кто в реальности уже не существует – дружба, честное слово, воздвижение могильных памятников – не компенсирует с лихвой любую непосредственную полезность и целесообразность? Если вы чувствуете себя обязанным поставить надгробие для умершей, не ощущаете ли вы, что тем более обязаны ради нее же продолжать жить, выживать?» Действительно, он признал обязательства относительно утилитаристских соображений невыраженными и неосознанными. Было бы недостаточно поймать пациента на слове, как это сделали его друзья; следовало поймать его на деле , и такой прием относится к сущности экзистенциального анализа. Фактически он вел себя как человек, который верит в «бытийную обязанность», более того – в высший смысл бытия-в-мире, во что-то, что наделяет его смыслом не только в любое время, но даже после последнего вдоха, то есть в последний миг его бытия-в-мире [83].
Логотерапия пытается направить пациента к конкретному личностному смыслу, задать ему такой ориентир. Но логотерапия не предназначена для того, чтобы наполнять бытие-в-мире пациента смыслом; в конце концов, никто же не ожидает и тем более не требует от психоанализа, так плотно занимающегося сексуальностью, чтобы тот способствовал заключению браков, либо от индивидуальной психологии, уделяющей такое внимание сообществам, чтобы она помогла занять место в обществе. Аналогично нельзя требовать от логотерапии, чтобы она предлагала ценности. Речь не идет о том, чтобы наделить пациента смыслом бытия-в-мире – как будто область психотерапии, столь явно оперирующая ценностями, могла бы иметь какой-либо иной смысл, кроме следующего: скажем, расширить ценностное поле зрения пациента так, чтобы он осознал весь спектр личных и конкретных смысловых и ценностных возможностей. Но логотерапия помогает пациенту осознать лишь его бытийную ответственность, чтобы он сам мог решить, в выполнении какого конкретного смысла и реализации каких личностных ценностей заключается его собственное бытие-в-мире и сопутствующая ответственность и перед чем (перед совестью или перед обществом), а отнюдь не перед кем (Богом) он несет такую ответственность. Так или иначе, речь идет не о том, чтобы мы сообщали пациенту какой-то смысл бытия-в-мире, а только и исключительно о том, чтобы мы помогли ему достичь такого состояния, в котором он может найти этот смысл .
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу