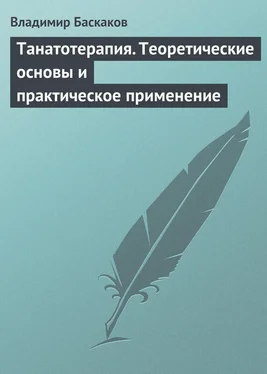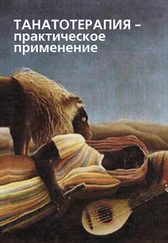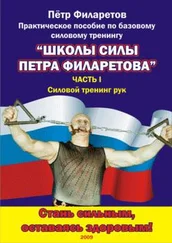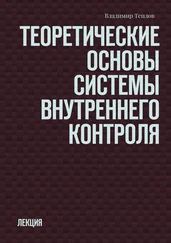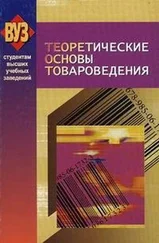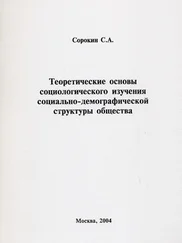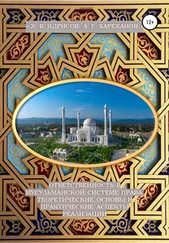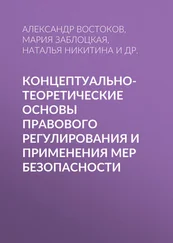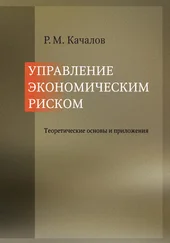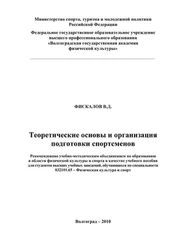7. Танатотерапия между «Сциллой» и «Харибдой»
Область танатотерапии – это область, находящаяся между своеобразными навигационными «створами» или, пользуясь мифологическим языком, – между «Сциллой» («отреагирование», катарсис) и «Харибдой» (сон, кома, глубокий транс). И в первом, и во втором случае разрывается связь между танатотерапевтом и клиентом. В случае отреагирования – контроль клиента отсутствует, он зачастую совершает безумные поступки. Потом приходит стыд, вина, покаяние. Но это потом. На уровне чувств – взрыв чувств (отсюда, собственно, и потеря контроля). Тело – не ощущается. Человек может пораниться в кровь. С позиции целей психотерапии, ведущим к интеграции трех сфер, мы в данном случае наблюдаем процесс полной их дезинтеграции. Отсюда наблюдаемые в последнее время у нас в стране и за рубежом падение интереса и меньшее по сравнению с прошлым применение т. н «катарсических» техник и практик, т. е. практик выведения клиента на отреагирование (известные приемы с теннисной ракеткой и подушкой на табурете). Результат таких практик – не продуктивен. Лишь происходит «обесточивание» паттернов, сами же они остаются. Во втором случае («Харибды») выбираемый клиентом сон или глубокий транс – зачастую удобный способ «свернуть» с трудной дороги работы над собой, снятия ответственности за происходящее («меня это не касается», «я не здесь!»). Это своеобразные христианские «прелести», «элевсинские топи». В этом серьезная опасность этих мест для танатотерапевта – непонятно, куда движется процесс клиента. Контакт утерян. Но, одновременно, в этом – точная квалификация танатотерапевтического процесса: если клиент засыпает, или если он, не обращая внимания на танатотерапевта, входит в отреагирование, – это точно не танатотерапия. В таком случае можно применять весь спектр приемов других видов психотерапий (активизировать контроль, открывать дыхание, задавать вопросы и т. д.). В чем-то танатотерапевтический процесс может напоминать «полеты» шамана с гарантией возврата и неразрывной связью шаман-больной.
8. Танатотерапия: стадии процесса
Существует много типологий стадий смерти и умирания. Вряд ли целесообразно их суммировать и обобщать. Интересно их рассматривать как «уникальные», находя в каждой из них свои специфические компоненты. В отличие от общепринятых типологий, например, типологии Элизабеты Кюблер-Росс (Kubler-Ross, Ε… 1969, 1974, 1975), или Раймонда Моуди (Moody, R.A.,1975, 1977), нам хотелось бы упомянуть фрагмент советского культового фильма режиссера Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». А именно, сцены гибели профессора Плейшнера. Первая стадия (по Э.Кюблер-Росс – «игнорирование смерти» или стадия «смерти нет!») – это профессор в зоопарке. Он также, как и маленькие дети радуется жизни, весело смеется над проделками животных. Но смерть-то есть! Она в виде двух гестаповцев, там же, в зоопарке. Они периодически поднимают свои головы и ищут взглядом Плейшнера. На месте ли? Вторая стадия – Плейшнер на Цветочной улице. Вот оно осознание «смерть есть!». Его же предупреждал Штирлиц, что нужно перейти на другую сторону улицы и вначале посмотреть на окно
– не выставлен ли цветок. По Кюблер-Росс – вторая стадия представляет особый интерес для психотерапевтов и танатотерапевтов. Осознание смерти (вторая стадия) не приводит по Кюблер-Росс к отчаянию, унынию, депрессии. Вторая стадия – гнев! Максимально сильное чувство, реализуемое через максимально сильные импульсы тела. В состоянии гнева – человек может совершить страшный поступок. Это – энергетический взрыв. Видимо, человек настолько сильно отводит своеобразный «маятник состояний» в одну сторону – «смерти нет!», что, срываясь, – он летит с перехлестом. Отсюда – так трудно работать с людьми, переходящими во вторую стадию умирания. На эту тему – фрагмент другого фильма, последнего фильма Кайдановского «Простая смерть» (экранизация «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого). Иван Ильич, пройдя причастие, в гневе и отчаянии отталкивает пришедшую его поздравить с этим важным христианским актом жену.
Вернемся к Плейшнеру. На второй стадии – сплошь загадки. Подняв глаза, увидав цветок (голос Капеляна беспристрастно комментирует: «разведчик успел его поставить») и отведя взор вниз, кто заставляет Плейшнера поднять глаза во второй раз?! Эти двое разговаривавшие в окне гестаповцы – они же его не заметили в первый раз! И только во второй раз, когда Плейшнер взглянул на них, они взглянули на него – и следует жест приглашения – «смерть здесь!». И образ птички в клетке! Не в этом ли притягательность смерти? Знала ли Лиознова типологию Кюблер-Росс? Сомнительно! Знал ли Лев Толстой, ведя своего героя Ивана Ильича по этим же стадиям? Исключено!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу