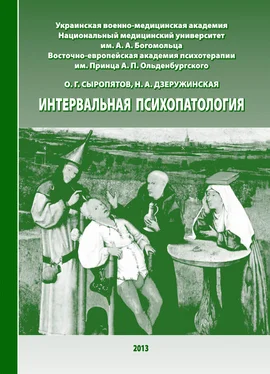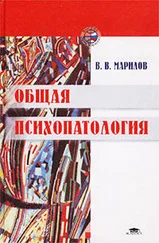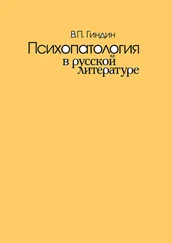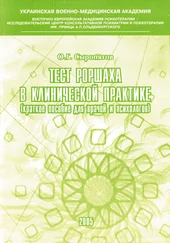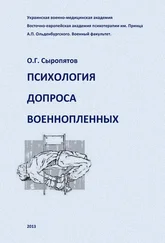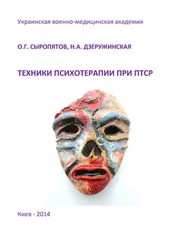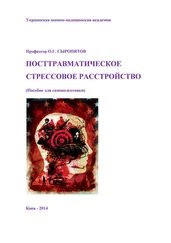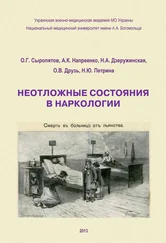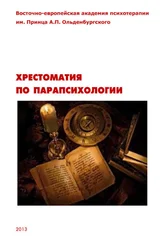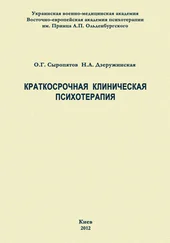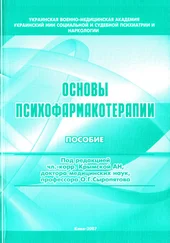Согласно А. В. Кезину, основные философские утверждения радикального конструктивизма можно сформулировать в виде следующих тезисов: А) Познание – активный процесс конструктивной деятельности субъекта. Б) Познание имеет адаптивное значение и нацелено на приспособление и выживание. В) Познание служит организации внутреннего мира субъекта, а не задачам описания объективной онтологической реальности. Г) Научное познание в конечном счете должно служить практическим целям.
Методологическая позиция радикального конструктивизма применима к психотерапии и психиатрии, ряду областей гуманитарно-научных и социологических исследований, нейронауке и физике, а также другим дисциплинам.
Пауль Вацлавик применил системный подход в теории межличностных коммуникаций в психотерапии для объяснения психопатологии. Исследование человеческой коммуникации показало, что это сложный многоуровневый процесс, понимаемый с точки зрения контекста, содержания, кодировки-декодировки и передачи сообщения. П. Вацлавик приводит анализ «парадоксальной коммуникации» в обыденной жизни и в «шизофренногенных семьях». Парадоксальная коммуникация, которая лежит в основе двойного принуждения, обычно приобретает принцип приказа, который следует сделать, но сделать – означает проявить непослушание. Мать общается с психиатром по поводу своей дочери, болеющей шизофренией, говорит, что у девушки началось обострение заболевания. Врач просит мать привести пример ненормального поведения дочери. Мать говорит, что дочь сегодня заявила, что не хочет приехать пообедать с ней. Когда врач спросил, чем кончилась эта беседа, мать недовольно ответила, что убедила ее приехать, так как однозначно знала, чего на самом деле хочет ее дочь, да и духу отказать у нее все равно бы не хватило. Из вышесказанного матерью делаем выводы, отказаться пообедать на самом деле обозначает желание прийти и мать в этом абсолютно уверена; согласиться пообедать – недостаток у дочери силы духа отказаться. Таким образом, мы видим парадоксальное наклеивания ярлыков на сообщения, жертвами которого стали мать и дочь.
Столкнувшись с несносной абсурдностью происходящего, человек может выбрать одну из приведенных моделей поведения:
1. Ему может казаться, что определенные элементы происходящего он не улавливает и это таит в себе некий скрытый смысл, который другие понимают очень просто. В результате у него появляется потребность выявить эти элементы, что приводит к замене их самыми безобидными фактами, не имеющие к ситуации существенного отношения;
2. Человек может реагировать на мучающую его логику ситуацию, соответствуя всем ее требованиям и принимая все слишком буквально, не расставляя приоритетов между важным и неважным, правдоподобным и неправдоподобным, реальным и нереальным;
3. Также, он может основательно выйти из игры, отрубив все каналы коммуникации и проявляя скрытность и недоступность.
Каждая из этих трех схем поведения вызывает одну из трех форм шизофрении: параноидную, гебефренную или кататоническую. Бейтсон и его сотрудники говорят, что человек «не в состоянии без основательной посторонней помощи расшифровывать и комментировать сообщения других людей», он «похож на саморегулирующуюся систему, лишившуюся своего регуляторного устройства; он обречен двигаться по спирали, совершая постоянные и всегда систематические искажения»; Вацлавик дополняет, что коммуникация шизофреника, сама по себе парадоксальна, в добавок она накладывает отпечаток парадоксальности на участников взаимодействия, создавая порочный круг. (П. Вацлавик, Д. Бивин, Д. Джексон Прагматика селовеческих коммуникаций: Изучение паттернов патологий и взаимодействия./Пер. с англ. – М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО Пресс, 2000. – 320 с.).
Компаративистика общей психопатологии представлена в немногих работах и чаще всего ограничивается критикой, вместе с тем, новое понимание возможно лишь при изменении методологии, требующей глубокого философского погружения в проблему. В настоящее время обилие междисциплинарных исследований на границе психиатрии и философии привело к выделению новых областей знания – философии психиатрии, философии медицины, клинической философии – все они вызревают как одна из ветвей прикладной философии (Власова О.Г., 2009).
Философия и психиатрия соприкасаются и вступают во взаимодействие как теория и клиническая практика. При трансформации философской теории в практику клинической психиатрии существенную роль играют следующие факторы: 1). Изменения связаны с приспоосбление философской теории к отрасли медицины – клинической психиатрии. Теория всегда определяет практику, а практика влияет на теорию. 2). Клиническая практика в обязательном порядке требует приспоосбления теории к своим задачам – исцеления пациента. Теория подчинена практике – те элементы теории, которые не имеют прагматического значения, обычно исключаются. 3). Практика психиатрии не поддаётся логике «здравого смысла». Практика психиатрии для разума есть прямой опыт трансцендирования, в котором он видит свои ограничения. Поэтому психиатрическая практика совершенствует философскую теорию. Под влиянием психиатрии философия ставит свои вопросы: каковы онтологические основания патологического опыта, и что он может сказать нам о привычной реальности; какие механизмы конституируют патологический мир и запускает эти трансформации; что составляет ядро патологического опыта и как вообще онтологически и онтически он возможен; каким путём можно проникнут в патологическую реальность и каковы основания для интерпретации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу