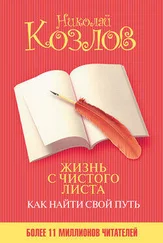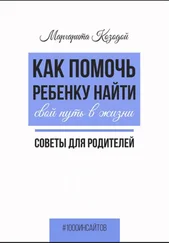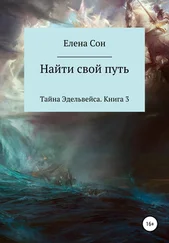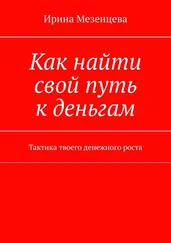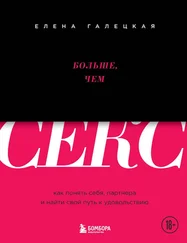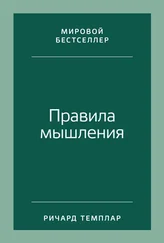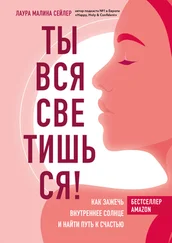Дети не ищут причины, чтобы что-то начать. Ребёнок совершает действия, в ходе которых чувствует каково ему – нравится ли ему это делать или нет. Нет разделения ощущений на плохие и хорошие. Он проживает их все, не наделяя ярлыком и оценкой. Ко всему хочет прикоснуться, со всеми хочет взаимодействовать. Без каких-либо суждений, опасений, предубеждений.
Он пробует всё, что провоцирует в нём интерес. Ребёнок живёт в моменте, не думая о прошлом или будущем. Соответственно, он не делает преждевременных выводов и прогнозов. Не сомневается и не блуждает в бесконечных противоречиях: «а стоит ли…?», «а нужно ли…?». Таких мыслей в его сознании пока что нет. Он начинает и проживает каждый процесс: играет, убегает, догоняет, прыгает, рисует… И не хочет возвращаться домой, ведь там нет новых ощущений и новых впечатлений, которые он всегда ищет, поэтому он хочет гулять бесконечно!
Дети выходят на улицу, чтобы просто идти. Не важно, каким маршрутом. Ум взрослого человека всё тщательно анализирует, чтобы понимать – куда, с кем и зачем идти, в какое конкретное место и каким маршрутом, заранее его распланировав. Также нужно понимать, что ты будешь делать, оказавшись в конкретном месте. Понравится ли такая идея твоему уму, прежде чем приступить к её реализации.
Взрослым нужно знать конкретный смысл и выгоду от тех действий, которые они намереваются предпринять. Процесс – вторичен или вовсе не важен. Всё, что не вписывается в привычные рамки – не допускается или тщательно анализируется и, скорее всего, будет забраковано. Случайные встречи и непредсказуемые события – нежелательны. Взрослые люди теряют доступ в мир безграничных возможностей, потому что начинают жить по инструкциям и выученным правилам.
По мере взросления ум набирает силу и берёт бразды правления. Мы становимся консервативными и прагматичными. Утрачивается связь с подсознательной сущностью. Мы забываем, какими мы были и что любили. Перед глазами только морковки, за которыми мы так упорно гонимся.
Ребёнок ещё не выдрессирован культурой потребления. Он не думает о корыстных целях, которыми кишит ум взрослого человека. И пока его не приучили к наградам, он не руководствуется установкой, что участвовать в каких-либо процессах – нужно только, если тебе дадут за это конфету в красивой обёртке.
Он ещё не понимает – зачем что-то делать, чтобы снискать одобрения и постараться всем угодить и понравиться. Он не ждёт, что ему заплатят за его старания и действия. Ему важен сам процесс и ощущения, которые он извлекает из него. Таким образом, он познаёт себя и окружающий мир.
В сознании ребёнка нет места страху, который ещё не успел проявить себя, поэтому ничто не способно ограничить действия детей. Страх не может заставить ребёнка остаться дома. Напротив, им движет сильнейшее любопытство к миру. Он прыгает по крышам и бегает по двору с другими детьми. Он постоянно играет. Эта игра, какой бы бессмысленной ни казалась взрослому – самое важное для него.
Ребёнок не пытается укрыться от внешнего мира в субъективном мирке, пока не начнёт обжигаться о зависть и злобу других ребят и пока не окажется сдавленными в тиски, навязанных окружающей культурой и социумом, канонов и правил. А также требований, как он должен выглядеть и вести себя, что нужно хотеть и чему соответствовать, подавляя свою индивидуальность.
По мере взросления в нас усиливается чувство страха раскрыть свою индивидуальность и жить в соответствии с внутренним началом, потому что другие обезьянки, копирующие друг друга – начинают ещё с раннего детства осуждать нас за различия с ними.
Взрослые люди становятся замкнутыми, чёрствыми и злыми, потому что нет ни иного пути, ни поддержки. Нам это доказывает нашумевший эксперимент, который был проведён в 1970 году учительницей Джейн Эллиотт (Jane Elliott) со своими учениками третьего класса.
Женщина поделила класс на группы – на кареглазых и голубоглазых. В первый день эксперимента Джейн обозначила голубоглазых детей как привилегированную группу, раздав им платки из коричневой ткани и попросив обвязать вокруг шеи каждого кареглазого одноклассника, чтобы тех было легче идентифицировать в качестве меньшинства. Всем детям было сказано, что группа с голубыми глазами лучше и умнее группы кареглазых.
Вместе с этим голубоглазая группа получила дополнительные привилегии: вторую порцию на обед, доступ в новую игровую комнату, лишние пять минут на перемене. Эллиотт разместила голубоглазых учеников на передних рядах класса, тогда как кареглазые были отправлены на задние ряды. Кареглазые постоянно подвергались наказанию со стороны учителя, когда не следовали правилам или допускали ошибки.
Читать дальше