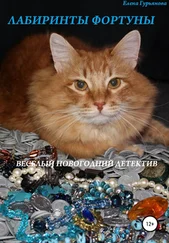Марк Аврелий
Любой взрослый человек является центром собственной жизни и, осознавая свою единичность и временность/конечность существования в мире, испытывает необходимость закреплять, верифицировать, удостоверять собственное бытие ( Мамардашвили, 1996; Мамардашвили, Пятигорский, 1971). Один из возможных путей для этого – конструирование и рассказывание автобиографических и квазибиографических личных историй, совокупно образующих текстовую идентификацию жизни рассказчика.
Автобиографирование выступает как процесс и результат постоянно текущего во внутреннем плане сознания герменевтического процесса индивидуации – выстраивания и фиксации собственного самобытного «Я, часто – в форме гиполепсиса ( Ассман, 2004) – беспрерывно продолжающегося внутреннего диалога. В нём человек не просто систематизирует и упорядочивает амплифицированные в смысловом и эмоциональном плане эпизоды жизни, но «принуждает смыслы существовать через себя» ( Бадью, 2004), создавая новые субъективные семантические единства ( смысловые синтагмы ), отражающие его пристрастное отношение к собственной жизни и жизни вообще («Я как субъект собственной жизни»).
Каждая из биографических историй, о чём бы в ней не повествовалось, в своей основе является последовательностью реальных эпизодов прожитой жизни, пристрастно отобранных, семантически обогащенных, наделенных личностными смыслами, отражающих и презентирующих другим текущие представления субъекта о том, что есть «Я» и что есть «моя жизнь». Эти эпизоды очень разнообразны по своему психологическому содержанию. Они могут включать как происшествия жизненного пути и реальные ситуации взаимодействия, так и возникающие по их поводу и вне повода мысли, чувства, ассоциации, впечатления, аллюзии, переносы, литературные прецеденты, воспоминания, образы сновидений, чужие идентификационные образцы и пр. – пережитые или просто заимствованные и впоследствии ставшие неразличимыми от собственного «Я» – «своим-чужим» ( Бахтин, 1979, с. 371).
Осуществляемый во внутреннем плане сознания, в процессе повседневной коммуникации или в ходе диалога с консультантом рефлексивно-герменевтический процесс автобиографирования упорядочивает, фиксирует и «высвечивает» (термин М. Хайдеггера) для самого субъекта и его социального окружения результаты самопонимания и рефлексии проживаемой жизни и позволяет субъекту ассимилировать, строить и транслировать вовне приемлемую версию себя. Фактически, в автобиографировании человек, следуя своей «субъективной правде» ( Калмыкова, 2012, с. 39), разделяет непрерывно текущий процесс жизни на отдельные завершенные фрагменты и тем самым упорядочивает и осмысляет их, поскольку только конечным эпизодам можно придать смысл, а «что не имеет конца – не имеет и смысла» ( Лотман, 1994, с. 417). Потенциально любому вычлененному из опыта «конечному» эпизоду может быть придан необходимый человеку смысл, и, как правило, это приводит к более целостному, «стереоскопическому» восприятию себя и своей жизни, помогает открывать новые пространства самовоплощения.
В научно-психологическом контексте мы предлагаем рассматривать автобиографирование как одну из возможных практических форм «заботы о себе» . В идею «заботы о себе» входит всё то, что человек способен отрефлексировать как необходимое именно ему, совершаемое исключительно «ради самого себя» – не столько даже на уровне поддержания здоровья и жизнедеятельности, сколько для переживания внутреннего благополучия и конгруэнтности с миром, для развития своей самости и «жизни духа» ( Иванченко, 2009; Петрова, 2009; Пичугина, 2012; Соловьев, 2006; Фуко, 2007). Осознавая своё существование как собственную задачу – «что нам, людям, можно и должно делать с нами самими» ( Рорти, 2003, с. 33), – «человек делает себя сам, формирует собственный этос, культивирует в себе субъекта действия» ( Лехциер, 2005, с. 55) и, фактически, трансформирует «себя наличного» в «себя иного», руководствуясь при этом собственными целями и представлениями о том, кем он хочет, может и должен становиться.
Как именно человек должен заботиться о себе, познавать себя и созидать свою самобытную целостность, в разное время понимали по-разному. Так, известно, что уже Платон в «Алкивиаде» говорил об «озабочении собой» как о своеобразной «технике себя», связанной, очевидно, с обращением сознания к своему носителю ( Бабушкина , 2003; Фуко, 2007). В конфуцианстве концепт «жэнь/человечность» среди прочего содержал важный аспект постоянного «превозмогания себя» на пути самосовершенствования. Сопряженные с ними «очищение» и «собирание души», медитативное отрешение, «досмотр сознания», «рассуждения о делах» и т. п. ( Фуко, 1998, 2007; Хоружий, 1998) и сегодня являются распространёнными приёмами психотерапии.
Читать дальше
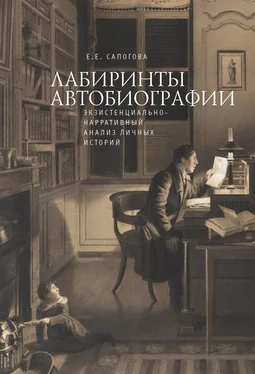
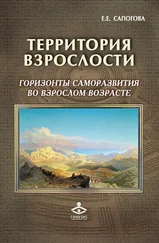



![Мишель Филгейт - О чем мы молчим с моей матерью [16 очень личных историй, которые знакомы многим]](/books/401476/mishel-filgejt-o-chem-my-molchim-s-moej-materyu-16-thumb.webp)