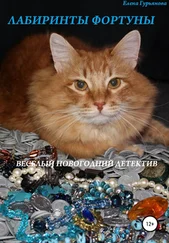Г. Гердер). Неудачное действие, проступок, промах, ошибка выбора, даже просто драматическое стечение обстоятельств, которые накладывают отпечаток на дальнейшую жизнь человека, лишая её экзистенциальной полноты и бытийной радости, косвенно присутствует в исповеди, постоянно требуя возвращения к обсуждению, покаянию, оправданию, прощению. Иногда это становится результатом столкновения двух значимых на конкретный момент жизни желаний, ценностей, обретений. Будучи пойманным в паутину трудного, экзистенциально окрашенного выбора, человек часто не думает о дальних последствиях совершаемого и впоследствии на долгие годы оказывается в неудовлетворяющих его, а порой и вовсе трагических обстоятельствах. Консультирующий психолог нередко имеет дело именно с исповедальной стороной автонаррации, хотя понимание проблем клиента требует содержательно более полного изложения им и других обстоятельств своей жизни.
Автобиографический нарратив, в принципе, отличается и от мемуаров, которые ориентированы преимущественно на внешнесоциальную сторону жизни личности – на упоминания о том, как она участвовала в значимых общественных событиях, с кем из знаменитостей современности встречалась, что выдающегося совершила, на что повлияла и пр. Здесь наверняка неизбежны социальное декорирование, передергивание фактов, смещение акцентов, гиперболизация случайных деталей. Автобиография же предполагает акцентирование подлинной внутренней жизни человека, его развития и становления именно тем, кем и каким он мыслит себя сейчас. В этом плане автобиография всегда есть не просто логическая сцепка жизненных эпизодов, но некое смысловое единство , принятое личностью и характеризующее её. Автобиографией человек действительно хочет высветить что-то значимое о себе и своей «авантюре саморазвития» (Э. Фромм).
Вероятно, есть смысл различить также записанный автонарратив и от традиционно понимаемых дневниковых записей , также выполняющих функцию общения субъекта с самим собой, хотя это различие уже не носит столь принципиального характера. Дневниковые записи часто делаются если не с откровенно утилитарной целью («домашние хроники», «записки для памяти», «девичьи альбомы» и пр.), то, как минимум, с внутренней интенцией «оставить себя самого потомкам» как «памятник образу жизни», достойному подражания. Ориентированность на имплицитное «автобиографическое соглашение» с читателем заставляет автора контролировать содержание «дневниковой биографии», исходя из этой цели – и тогда уже нежелательно выглядеть непредусмотрительным, смешным и пр.; всё это должно быть исправлено и скомпенсировано средствами нарратизации, чтобы не «потерять лицо». Да и сам факт записывания автоповествования уже семантически «выпрямляет» его содержание, делает его более социально-нормативным и линейным. Тем не менее, сказанное не исключает написание дневников и в исповедальной форме, «для себя» (именно поэтому на их чтение и/или публикацию часто накладывается запрет на много лет или они уничтожаются самим автором в конце жизни, не доходя до потенциального читателя).
В этом плане автобиографическая наррация, актуализируясь для разных целей, являет собой многоуровневое психологическое образование. И не случайно в последние десятилетия само слово «автобиография» замещается терминами «эго-документы» (ego-documents), «свидетельства о себе» (Selbstzeugnissen), «жизнеописания» (life-writings), «сочинения о своей душе» (le sécrits du for privé), «автодокументы» и пр.
Вообще, сам автобиографический жанр возникает как следствие общественного осознания единичности конкретной жизни, её уникальности . Психологически автобиография больше нужна рассказчику, чем слушателю: она стартует от самой себя и возвращается к себе, замыкается на самой себе, хотя в «середине пути» может фрагментарно в том или ином объёме рассказываться другим.
Мне всегда было интересно, как человек самоопределяется собственными значениями, как создаёт структуру и образы самого себя, как выстраивает концепцию своего «Я» и своей жизни, на каких основаниях начинает считать свой жизненный путь истинным и предназначенным единственно ему.
Несколько лет назад, читая одну из работ О. Э. Мандельштама, я наткнулась на термин «семантическая удовлетворённость», обозначавший своеобразное личностное переживание, возникающее в творческом «проясняющем акте понимания-исполнения». Фактически, он говорил о том, как поэту удаётся «схватить», удержать, обозначить и вербализовать некие непрерывно скользящие во внутреннем плане сознания текучие переживания, мгновенно вспыхивающие и тут же сменяющиеся новыми осознаниями «себя-в-происходящем». И хотя он имел в виду, в первую очередь, поэтическое творчество, такие проясняющие акты принципиально свойственны любому субъекту в актах автобиографирования – они являются одним из способов «схватывания» и фиксации собственной сущности.
Читать дальше
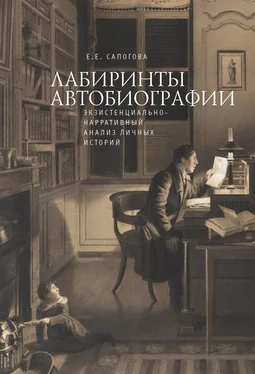
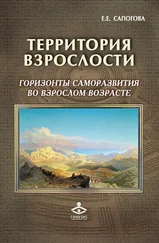



![Мишель Филгейт - О чем мы молчим с моей матерью [16 очень личных историй, которые знакомы многим]](/books/401476/mishel-filgejt-o-chem-my-molchim-s-moej-materyu-16-thumb.webp)