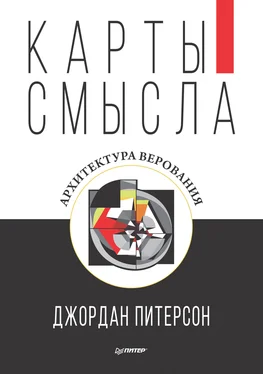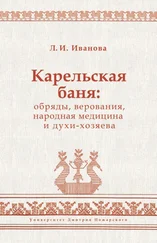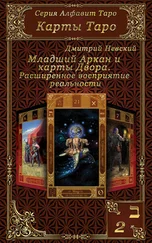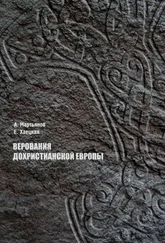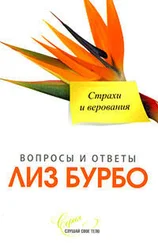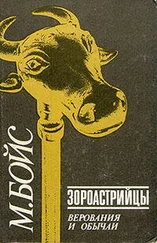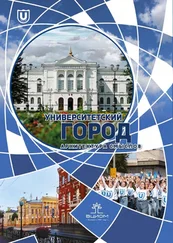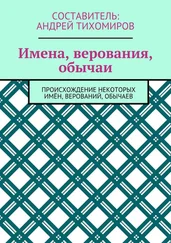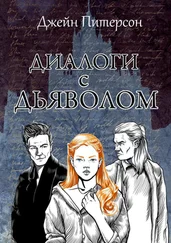1 ...8 9 10 12 13 14 ...36 Нам стоит большого труда переварить это описание. Оно переполнено образными и мифологическими ассоциациями, свойственными средневековому уму. Однако именно эта фантастическая словесная мешанина побуждает нас к внимательному разбору алхимического текста – не с точки зрения истории науки, занимающейся изучением устаревших объективных представлений, а с точки зрения психологии, уделяющей большое внимание толкованию субъективного мировоззрения.
«В нем [Индийском океане] имеются образы неба и земли, лета, осени, зимы и весны, мужчины и женщины. Если ты называешь это духовным, ты, вероятно, прав; если – материальным, ты говоришь истину; если – небесным, ты не лжешь; если – земным, ты хорошо сказал» [12]. Алхимик не отделял субъективные представления о природе вещей, то есть свои гипотезы , от самих вещей. В свою очередь, эти гипотезы – продукты его воображения – он выводил из неоспоримых и непостижимых исходных объяснений и предположений, которые были частью культуры. Средневековый человек, к примеру, жил в нравственном мире, где абсолютно все, даже руда и металл, прежде всего стремились к совершенству [13]. Таким образом, с точки зрения алхимиков, вещи обладали скорее нравственными характеристиками. В первую очередь учитывалось их воздействие на то, что мы бы назвали эмоциями, чувствами или мотивацией. То есть вещи обладали определенной значимостью или ценностью (которые влияют на эмоции). Описание этой значимости приняло повествовательную, мифическую форму – как в примере, взятом у Юнга, где серной составляющей солнечного вещества приписываются отрицательные, демонические свойства. Можно сказать, что наука совершила великий подвиг: она отделила эмоции от восприятия и дала возможность описывать происходящее исключительно с помощью общепринятых объективных понятий. И все же эмоции, порождаемые переживаниями, не менее реальны . В представлениях алхимиков чувства смешивались со смыслом, а эмоции считались чем-то само собой разумеющимся (хотя они и не знали этого наверняка ). Мы отделили эмоции от вещей и поэтому можем блестяще манипулировать последними. И все же люди до сих пор становятся жертвами непостижимых эмоций, порождаемых вещью, то есть возникающих в ее присутствии. Мы утратили донаучные представления о мифической Вселенной или, по крайней мере, перестали их развивать. И мощный технологический прогресс оказался во власти наших все еще бессознательных систем оценки, что еще опаснее.
До Декарта, Бэкона и Ньютона человек жил в одушевленном, духовном мире, насыщенном смыслом, проникнутом нравственной целью. Суть этой цели передавалась из уст в уста в преданиях об устройстве Вселенной и месте человека в ней. Сейчас мы мыслим эмпирически (по крайней мере, мы думаем, что полагаемся на опыт). И духи, некогда населявшие Вселенную, исчезли. Силы, высвобожденные наукой, посеяли хаос в мире мифологии. Юнг говорит:
Каким совершенно иным казался мир средневековому человеку! Для него Земля была вечно неподвижна. Она покоилась в центре Вселенной, а вокруг нее двигалось Солнце и заботливо дарило тепло. Все люди были детьми Божьими. Они находились под любящей опекой Всевышнего, который готовил их к вечному блаженству, и каждый точно знал, что ему делать и как себя вести, чтобы подняться из тленного мира к нетленному и радостному существованию. Такая жизнь утратила реальность, даже во сне. Естествознание давно разорвало в клочья этот дивный покров [14].
Даже если средневековый человек не приходил в трепет и восхищение от догматов религии (например, он больше верил в ад), он все же не страдал от потери нравственных ориентиров и бесчисленных рациональных сомнений, которые преследуют его современного собрата. Для донаучного ума религия была скорее фактом, а не вопросом веры, и преобладающая доктрина не являлась лишь одной из многих убедительных теорий.
Однако за последние несколько столетий стойкая вера в аксиомы религии была серьезно подорвана – сначала на Западе, а затем и по всему миру. Плеяда великих ученых и борцов с предрассудками веры доказала, что Вселенная не вращается вокруг человека, что наши представления о его особом статусе и превосходстве над животными не имеют опытных доказательств и что на небесах нет Бога (и даже самих небес очевидно не существует). В результате мы перестали верить собственным преданиям – отрицаем даже то, что эти предания когда-то сослужили нам хорошую службу. Революционные научные открытия – Галилеевы горы на Луне, Кеплеровы эллиптические орбиты планет – явились доказательством явного нарушения мифологического порядка, основанного на представлении о небесном совершенстве. Новые явления, порожденные опытами экспериментаторов, просто не могли существовать с точки зрения традиционных представлений. Более того – и это еще важнее, – новые теории, созданные для осмысления объективной действительности, серьезно угрожали целостности традиционных моделей бытия, которые придавали миру определенный смысл. В центре мифологической Вселенной находился человек. Объективная Вселенная вращалась вокруг Солнца, а потом и это оказалось не совсем так. Современный человек перестал находиться в центре внимания. Сильно поменялась и картина мира.
Читать дальше