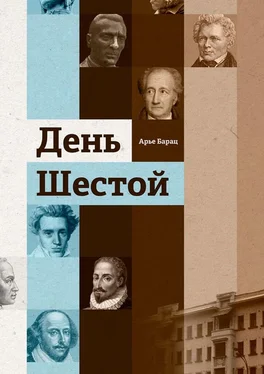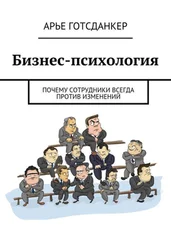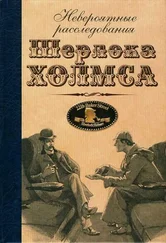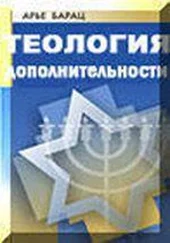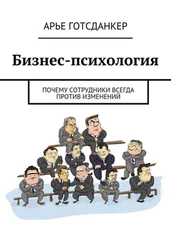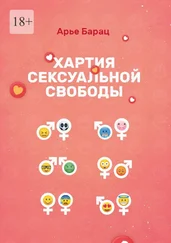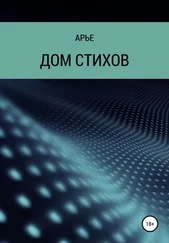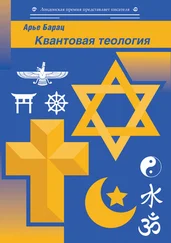Мельгунов подошел к полке и разыскал среди сочинений Канта томик, содержащий его биографический очерк.
Николай Александрович оказался разочарован прочитанной биографией. Невольно вспомнились язвительные слова Гейне: «Трудно описать историю жизни Канта, ибо не было у него ни истории, ни жизни».
Однако у Канта имелись сочинения. Пролистав несколько книг, Мельгунов обнаружил, что в 1768-м году Кант написал и опубликовал последнюю свою «докритическую» работу «О первом основании различия сторон в пространстве», и начал работать над диссертацией «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира», явившейся первой его «критической» работой.
Итак, таинство зарождения критической философии совершилось в искомом 1768 году! Прижав к груди «Критику чистого разума», Мельгунов прислонился к полке, пытаясь справиться с охватившим его волнением.
26 сентября (8 октября)
Мюнхен
Рано поутру Мельгунов сел в дилижанс и покинул Мюнхен. Он направился в Ганау, чтобы пройти осмотр и определиться относительно дополнительного лечения у доктора Коппа. К осени, как всегда, невралгии обострились, а кроме того, его просто тянуло во Франкфурт, тянуло к его загадочным призракам.
Но перед выездом Мельгунов вновь посетил кафедру астрономии мюнхенского университета.
То, что 1768 год оказался значимым для Гете и Канта, так заинтриговало Николая Александровича, что он пожелал выяснить, в какие еще года происходило это таинственное спаривание пасхальных и вальпургиевых полнолуний. Какими событиями обозначатся эти загадочные грани не менее загадочных эпох? Какие гении окажутся современниками и даже участниками этих сражений Света и Тьмы на пути к вершине человеческой свободы? Ведь именно такова цель самораскрытия Мирового духа!
Профессор Груйтуйзен и на сей раз выразил готовность произвести соответствующий расчет – вплоть до рождества Христова, – однако уже не был настоль любезен, чтобы произвести его в кратчайший срок. Профессор пообещал ответить через месяц, переслав результат в Ганау.
5 (17) октября
Москва
15 номер «Телескопа» с первым «Философическим письмом», размещенным в отделе «Науки и искусства», был отпечатан в последних числах сентября. Через день после выпуска Шевырев рассказал Чаадаеву, как в трактире «Железный» половой Арсений поднес ему вместе с чаем последний выпуск «Телескопа» и объявил: «Вот, извольте ознакомиться, свежий номер-с, вчера только вышел. Все тут статейку одну читают, удивляются; много всякого разговора. Вам будет интересно».
Прошла всего неделя, и в Москве уже нельзя было встретить ни одного образованного человека, который бы не слышал о диковинной публикации, и не судачил бы о ней.
Главный редактор «Московского наблюдателя» Андросов повстречался в те дни с издателем «Телескопа» Надеждиным. Он рассказал, что Чаадаев ранее пытался опубликоваться у него, и побился об заклад, что к 20 октября «Телескоп» будет запрещен, сам Надеждин посажен в острог, а цензор отстранен.
– Ну а Чаадаев? С Чаадаевым-то что будет? – кисло ухмыляясь, полюбопытствовал Надеждин.
– Этого я не знаю, – признался Андросов. – Чтобы знать, что правительство сделает с Чаадаевым, нужно быть пророком.
«Письма» были опубликованы анонимно, но тем нем менее все почему-то определенно знали, что автором их является «басманный философ».
Прямо на улице к Чаадаеву подходили люди, некоторые хвалили за блеск мысли и мужество, жали руку, но в большинстве своем, напротив, смотрели странно, или вовсе отводили глаза.
Именно этого Чаадаев и ожидал, именно этого он и добивался, всеобщего потрясения, взрыва, переворота в умах. Пусть не сразу, но в какой-то момент это сработает, русский народ очнется. Телегу по имени Россия, застрявшую в непроходимом болоте истории, пора вытянуть на дорогу и установить в общую колею. И момент, безусловно, подходящий. История стремительно приближается к финалу!
Чаадаев подошел к столу, открыл номер и стал перечитывать свою статью, как бы становясь за спиной тысяч своих читателей, чьи глаза в этот самый момент впивались в эти же строки: «В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке. Я не перестаю удивляться этой пустоте, этой удивительной оторванности нашего социального бытия…»
Читать дальше