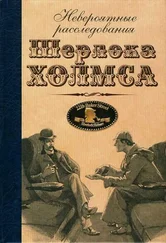– В Мюнхен я уже не поеду, я тороплюсь. Но там ваш давний друг Тютчев, он вас, конечно же, познакомит с Шеллингом.
– Я списывался с ним. Тютчев как раз сейчас собирается в Россию, я не уверен, что застану его.
– Так он из-за этого скандала что ли?
– Вы, я вижу, тоже слыхали? Я так понял, что ему в Мюнхене оставаться уже невозможно. Роковая ситуация. А вы знали, что он замечательный поэт? Пушкин опубликовал в своем «Современнике» десятки его стихов.
Знал ли Тургенев? Конечно!
Тургенев видел однажды Эрнестину молящейся в храме. Молитва в устах этой холодной кокетки показалась Тургеневу неуместной. Он прозвал ее Мадонной Мефистофеля, и сумел передать свое ощущение Тютчеву, который тогда же посвятил Эрнестине стих:
«И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе!»
Тургенев зачитал этот стих по памяти и спросил:
– Это стихотворение в «Современнике» публиковалось?
– Этого вроде бы не было.
– Когда-нибудь обязательно где-нибудь появится. Это о ней… об Эрнестине. Как говорится в книге Эклизиаст «И понял я, что горше смерти женщина» и как там дальше: «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? – Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел».
– Мюнхен на данный момент – моя главная цель, – продолжал Мельгунов. – Но начать, как видите, я решил все же с Веймара, со свидания с Гете. А как вы здесь проводите время?
– Мюллер устроил мне потрясающий прием. Столько интересного рассказал. Он сопровождал меня в поездке в сельский дом Гете в Тифурте. Вам, Николай Александрович, обязательно надо там побывать. Дом этот превращен в музей Мирового духа. Каждый из великих людей, навестивших Гете в его уединении, оставил ему на память какой-то сувенир, какой-то след. Теперь Тифурт – это святыня германского гения, ковчег народного просвещения. Мюллер рассказал мне, что последние слова Гете перед смертью были: «Свету, больше свету!»…. Ах, я столько всего увидел и услышал в этот раз в Веймаре… Надеюсь Пушкин останется доволен моим отчетом. Вы вообще здесь раньше бывали? Встречались с Гете?
– Не напоминайте мне, – криво усмехнулся Мельгунов. – Как-то по дороге из Парижа я заехал в Веймар, и действительно познакомился с Гете, но воспоминание двойственное сохранилось.
– Вы посетили Гете вместе с кем-то?
– Если бы! Один. Сам бы я, конечно, не дерзнул потревожить автора «Фауста», но когда Мериме – я был вхож в его круг – услышал, что я заеду в Веймар, то попросил передать Гете книгу «La Guzla». Я, конечно, такой возможности обрадовался. Всю дорогу воображал, что скажу Гению, но при встрече так законфузился, что до сих пор неловко. Впрочем, сколько мне тогда было? – Двадцать два. Ваши встречи с Гете, наверняка, были счастливее моей.
– Не все. Одна была, думаю, не лучше вашей, но однажды за три года до смерти Гения я действительно провел с ним незабываемый час за бутылкой вина. Беседовал с ним, как мы сейчас с вами.
– Я наверно умру от досады за упущенную возможность, но все равно расскажите.
– Помнится, я сказал ему, что всегда с удивлением слышу о его наградах. Что думают владыки, увешивая орденами грудь писателя, в которой бьется сердце Вертера? – спросил я его.
«Согласно нашему дорогому Шеллингу, цари прислуживают поэтам», – ответил мне Гете. – «Они делают это, как умеют. Меня, во всяком случае, иногда трогает их забота. А почему вы сказали, что здесь бьется сердце Вертера, а не Фауста?».
Я не решился ему сказать, что, по моему мнению, его «Фауст» принес в мир соблазн, но просто ответил, что ставлю Вертера выше Фауста.
– А что вы, собственно, против «Фауста» имеете? – поинтересовался Мельгунов.
– Если подвести общий итог, то книга эта опасна… ей лучше было бы не быть написанной. Ни познание, ни красота не являются высшей ценностью, а по «Фаусту», именно так и получается.
– Вы хотите сказать, что нравственность выше красоты? Что, как говаривал Пушкин, гений и злодейство несовместимы?
– Именно это.
– Но, ведь и Пушкин очень высоко чтит «Фауста». Да и по Шеллингу искусство выше морали, – возразил Мельгунов. – В этом, мне думается, его отличие от Гегеля. По Гегелю высшей инстанцией является разум, а по Шеллингу – искусство, сверхразумное единство.
– Верно. Странно, что я никогда не обращал на это внимания… Вы знаете, Николай Александрович, мне это напоминает один спор, в котором я стал невольным участником. В 1829 году я провел некоторое время в Бонне, слушал в тамошнем университете лекции Нибура и Шлегеля. В то время там учились два молодых еврея – Авраам и Шимшон. Авраам – умница, прекрасный образец просвещенного еврейства, которого теперь немало в Германии, а Шимшон, при всей своей тяге к знаниям, сохранял иудейское упрямство и косность. Они постоянно спорили.. и вот один их спор был как раз на эту тему… Авраам говорил, что только критический разум, только положительная наука могут приниматься во внимание при оценке традиционной веры, что все, что разумным критериям не соответствует, должно быть отброшено. А Шимшон как раз утверждал, что Бог Израиля и выше разума, и выше морали… И пример он привел самый вызывающий. «Почему вера иудеев всеми осмеяна, почему евреи повсюду слывут каким—то историческим шлаком, от которого все стремятся скорее освободиться? Потому что разум внушает, что универсальный Бог не может быть Богом какого-то одного племени, а если может, то только временно. Так говорит разум. Но Бог так не говорит. Бог говорит, что Он возлюбил Израиль вечной любовью, и что Его завет с ним вечен».
Читать дальше