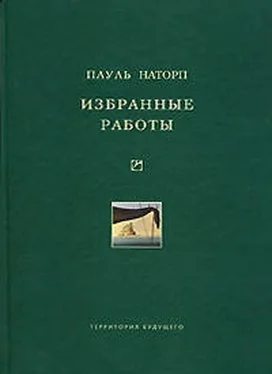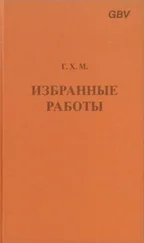Если пытаются иногда привлечь университетских преподавателей к свободному делу народного образования, то они нередко отвечают: лучше, когда каждый занимается своим делом: ученый – за своим письменным и экспериментальным столом, библиотекарь, чиновник музея – за своими каталогами; основательность непременно потерпит ущерб, если попробовать поделиться своей ученостью с кем-либо, кроме тех, кто, как полагается, подготовлен для этого и кто «имеет на это право». Очень часто приходится слышать, что университет по статутам существует для того, чтобы давать образование слугам государства и церкви; все же то, что он пробует сделать за пределами этого требования, отнимается у той цели, которой он предназначен служить, и тому подобные вещи профессорской мудрости. Последнее, конечно, совершенно неверно: государство содержит профессоров для многочисленных специальностей, которые не имеют ничего общего с подготовкой для государственных и церковных должностей; университеты, а тем более другие высшие школы, открыты для достаточно подготовленных слушателей, совершенно не считаясь с целью подготовления к государственной или церковной службе. Но мы уж привыкли справляться всегда только о том, что приказано делать, вместо того чтобы интересоваться внутренней, существенной целью образовательной работы, и эту цель, конечно, надо думать, следовало бы искать в нации и в людях, а не в должностях.
Но не одна только косность (я разумею духовную и моральную косность, которая легко соединима с самой старательной работой с утра до вечера в какой-нибудь ограниченной области) стоит на пути нашей цели, но в конечном счете до сих пор эту работу затрудняет, да и не раз уже парализовала самую честную волю к выполнению нашей задачи, борьба экономических, политических и религиозных партий. Время, когда эти противоположности партий и при этом все сразу постоянно все более обостряются, не благоприятно, конечно, для стремлений, которые построены и направлены именно на совместную работу, на добрую волю к известному игнорированию этих противоположностей, на чистую объективность и спокойную деловитость. Но теперешнее чрезмерное напряжение всех этих противоположностей не может продолжаться дальше, и более тщательное наблюдение учит нас, что экономическое, политическое и религиозное развитие неудержимо стремится к внутреннему растворению теперешних партий и созданию вообще нового положения. Рудольф Эйкен говорил где-то о «резкости, почти жестокости абстрактных противоположностей» среди различных слоев народа. Он сделал совершенно верное наблюдение, что крайняя резкость, в свете которой часто понимаются эти противоположности, существует в действительности только в абстракции. У немца уж такая склонность к абстракции; живые силы культуры работают, наоборот, в ином направлении, абсолютно принуждая к повышению и углублению взаимных отношений между всеми органами социального тела. И если бы даже у нас совсем не было права рассматривать конечное преодоление этих препятствий в народной жизни как возможную и даже необходимо достижимую цель, то и тогда следовало бы действовать так, как если бы она столь же возможна, сколь и безусловно необходима для того, чтобы нация в заключение не разрушилась и не распалась на свои атомы. Как бы резко ни обострялись эти противоположности в данный момент, их надо рассматривать все-таки как такие, которые в конце концов должны быть преодолены. Это преодоление должно по крайней мере стоять перед нашими глазами как идеальная цель, как «далекая цель».
Исходя из этого основания (я вчера уже сказал это, но считаю данную мысль достаточно важной, чтобы в связи с настоящим подчеркнуть ее еще раз), я не могу считать правильным мнение, что образовательные курсы для рабочих должны вообще отказаться от всех тех вопросов, которые являются спорными в среде современных экономических, политических и религиозных партий; это уже приводило иногда к совершенно неприемлемому выводу: что цель этих курсов вообще явится проводником только интеллектуального образования. Предпосылка, приведшая к такому результату, была следующая: сами преподаватели курсов неизбежно представляют из себя тоже партию; значит, работа по народному образованию приняла бы неизбежно партийное направление, если бы принципиально не исключались из нее все спорные вопросы. Это тотчас же чувствуется другой стороной и приводит к непреодолимому недоверию ко всем начинаниям этих курсов, совершенно уничтожающему их действительный смысл. Такой взгляд имеет известную видимость, но при этом не замечают, как мне кажется, самого главного. Все, принимающие участие, все желающие потрудиться дня народного образования должны быть с головы до пят проникнуты как высшим принципом мыслью, что они являются представителями науки, а это значит, что нельзя давать никакого решения в экономических, политических, религиозных и других каких-либо вопросах в виде готовой, неприкосновенной догмы, нельзя требовать общего признания того, что, может быть, для отдельной личности представляет собой дело веры, а надо исследовать, спрашивать, открыто ждать от беспристрастного исследования его любого решения и содействовать участию в этом испытывании, спрашивании и исследовании и других на вполне равных правах. Только на почве такой непредвзятости (это слово является в этой связи вполне определенным) мыслимо – а на этой почве и вполне возможно – «нейтрально», т. е. независимо от какого-нибудь заранее установленного решения, ставить и совместно обсуждать вопросы хозяйства, политики и мировоззрения. В противоположность этому нейтральность, которая бы состояла в отказе вообще от рассмотрения вопросов, стоящих как раз в центре жизни, не соответствовала бы достоинству науки: это значило бы именно отрицать ее независимость, ее самостоятельность, на которой мы тем не менее постоянно настаиваем. Или наука действительно только служанка ограниченных практических стремлений, а значит, и партий, или она не может отказаться от намерения поставить перед своим форумом и эти последние, в конце концов самые важные для человека, вопросы, наиболее близко касающиеся глубочайшего человеческого существа, – не для того, чтобы высказать о них свои диктаторские отзывы, которые ставили бы еще больше препон дальнейшему исследованию, а именно в смысле освобождения собственного суждения и открытия бесконечного, но методически удостоверенного прогресса в убеждении, следовательно, в смысле неограниченной проверки и исправления.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу