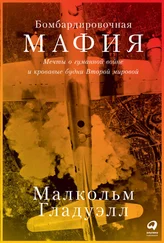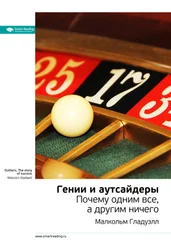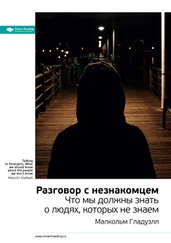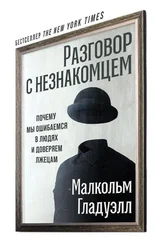В этот список входят Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джеймс Монро, Эндрю Джексон, Эндрю Джонсон, Ратерфорд Хейс, Джеймс Гарфилд, Гровер Кливленд, Герберт Гувер, Джеральд Форд, Билл Клинтон и Барак Обама.
Браун предварил свою работу раздирающими душу строками из Вордсворта, чья мать умерла, когда ему было восемь:
Та, кто был сердцем
И средоточием нашего познания и нашей любви,
Оставила нас в одиночестве,
Сгрудившимися друг подле друга.
Или, как гласит известная фраза английского эссеиста Томаса Де Квинси: «Осиротеть в раннем возрасте является или не является, в соответствии с природой человека, преимуществом».
Если вам интересен научный контекст борьбы с лейкемией, нет лучшего источника, чем книга Пулитцеровского лауреата Сиддхартха Мукерджи «Царь всех болезней. Биография рака» (The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer). В ней целая глава посвящена войне против лейкемии. Ее стоит прочитать.
В 1960-е годы дочь писателя Питера Де Вриса умерла от лейкемии. Свои воспоминания он описал в душераздирающем романе под названием «Кровь ягненка» (The Blood of the Lamb). Де Врис пишет:
Мы вернулись в детский корпус, и застали там уже знакомую сцену: матери подле умирающих детей, маска сострадания, «избиение младенцев». Одноногая девочка нетвердо переступает с помощью костылей по коридору, ловко поддерживаемая медсестрами. Сквозь стекло закрытой двери видно сидящего на кровати мальчика, кровь сочится отовсюду на его голове; у стены в ожидании примостился священник, готовый приблизиться в случае необходимости. В следующей палате мальчик лет пяти получал инъекции метотрексата в череп или, скорее, наблюдал, как группа техников с озабоченными лицами собралась вокруг отказавшего аппарата. В следующей малыш смотрел телевизор, по которому показывали телевикторину… Среди родителей и детей, льнувших друг к другу в кошмаре затянувшегося прощания, бродили сердобольные вампиры из Лаборатории, высасывающие образцы из костей и вен, чтобы узнать, как поживает враг, отметивший каждого из них. Врачи, в своих мясницких халатах, отделявшие конечности, выдавливающие мозг и вырезающие внутренние органы, где обитали демоны, что они думали об этих лучших плодах миллионов часов самоотверженного труда? Они изгоняли преступника из одного органа за другим, из одного сустава за другим, пока не оставалось ничего, на чем они могли оттачивать свое мастерство: мастерство затягивать болезнь.
Предположение относительно собственных эмоций в той или иной будущей ситуации называется «аффективное прогнозирование», и все свидетельства указывают на то, что мы большие любители аффективно прогнозировать. Психолог Стэнли Рэчман, к примеру, показывал змею группе людей, до ужаса боявшихся змей. Или заставлял людей, страдающих клаустрофобией, стоять в узком металлическом ящике. В результате он выяснил, что реальные ощущения от пугавшего объекта оказались менее ужасными, чем человеку заранее представлялось.
«У меня был похожий пациент много лет назад, – рассказал мне психиатр из Нью-Йорка Питер Мезан. – Он выстроил целую империю. Но детство у него трагическое. Мать умерла прямо у него на глазах, когда ему было шесть лет, в то время как отец стоял и в гневе орал на нее. У нее случились судороги. Отца, гангстера, потом убили, а моего пациента вместе с сестрой отправили в приют. Он вырос, не зная ничего, кроме преодоления трудностей. Поэтому и был готов использовать возможности, отвергаемые другими. Думаю, он считал, ему нечего терять». Мезан не видел ничего необычного в том, что существует зависимость между колоссальной трагедией в детстве и невероятными успехами, которых добивались, став взрослыми, некоторые осиротевшие дети. То, что они выстояли, пережив такую душевную травму, делало их свободными. «Это люди, способные преодолеть границы устоявшегося мира, переступить через общепринятые верования, убеждения, здравый смысл, через привычное, должное, – о чем бы ни шла речь: о раке или законах физики, – сказал он. – Они не скованы рамками. И наделены способностью выйти за их пределы, потому что, по моему мнению, для них не существовало обычных рамок детства. Эти рамки оказались разбиты вдребезги».
Идея о назначении многократных курсов химиотерапии – даже после того, как пациент на первый взгляд излечился от рака, – пришла в голову М. Ли и Рою Херцу из Национального онкологического института в конце 1950-х годов. Ли лечил хориокарциному – редкую разновидность рака матки – частыми курсами метотрексата, пока полностью не вывел ее из организма пациенток. Тогда впервые удалось вылечить солидную опухоль посредством химиотерапии. Когда Ли впервые предложил этот метод, ему было велено прекратить лечение. Люди сочли его варварским. Но он не остановился. Его уволили, хотя пациенты шли на поправку. «Вот такая тогда царила атмосфера, – вспоминает Девита. – Помню, собирались большие советы для обсуждения хориокарциномы. Был ли это случай спонтанной ремиссии. Никому и в голову не приходило, что метотрексат мог излечить пациента». Нет нужды говорить, что даже сегодня Фрайрайх говорит о Ли с благоговением. На одном научном собрании оратор принизил достижения Ли. Фрайрайх вскочил на ноги и проревел: «М. Ли вылечил хориокарциному!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
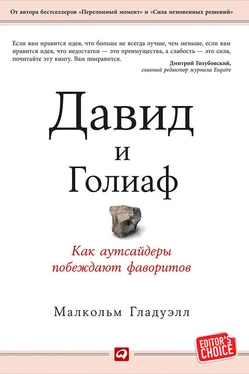
![Малкольм Гладуэлл - Гении и аутсайдеры [Почему одним все, а другим ничего?]](/books/33990/malkolm-gladuell-genii-i-autsajdery-pochemu-odnim-thumb.webp)


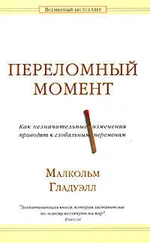
![Малкольм Гладуэлл - Озарение [Версия без таблиц]](/books/299808/malkolm-gladuell-ozarenie-versiya-bez-tablic-thumb.webp)
![Малкольм Гладуэлл - Озарение [Версия с таблицами]](/books/299826/malkolm-gladuell-ozarenie-versiya-s-tablicami-thumb.webp)
![Малкольм Гладуэлл - Разговор с незнакомцем [litres]](/books/437574/malkolm-gladuell-razgovor-s-neznakomcem-litres-thumb.webp)