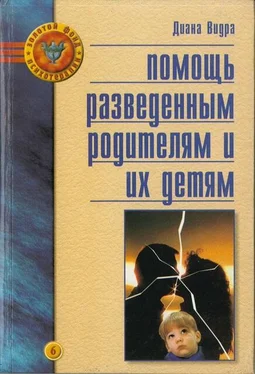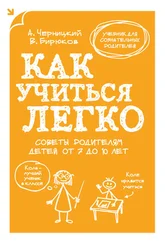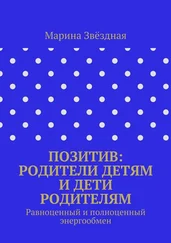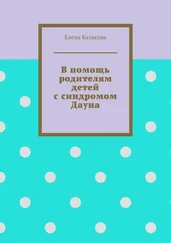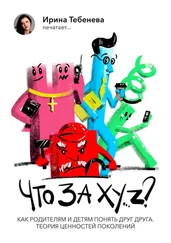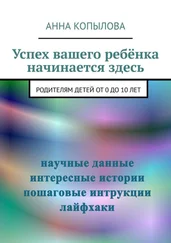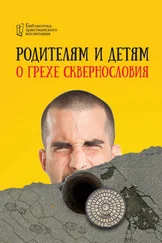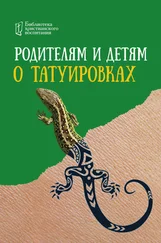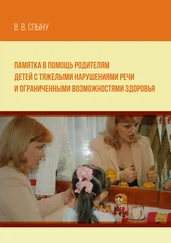Посмотрев поближе на психологические проблемы родителей, можно увидеть, что внутренние конфликты, лежащие в их основе, не так уж хорошо вытеснены, они буквально «рвутся» в сознание. Это конфликты так называемой психической поверхности: чувство вины и беспомощности, раненая гордость, ненависть, потребность в возмещении обид, страх перед одиночеством и потерей любви. И именно эти душевные порывы как раз и способствуют бессознательному проявлению проблематичных воспитательных действий. «Для того чтобы сделать их на длительное время сознательными и пробудить способность думать о них, необходимо лишь немного редуцировать страх, связанный с ними», — говорит Фигдор. Для этого он использует не психоаналитическое толкование реакций переноса или сопротивления, а разъяснение, то разъяснение, которое дает особенное знание, заставляющее увидеть мир в ином свете. В результате человек приобретает чувство внутренней свободы и учится формировать свою жизнь на основе разумных представлений о том, какой она должна быть. В этих случаях психоанализ говорит об эмансипации личности.
Фигдор приводит в пример понятие разъяснения, используемое при посвящении в тайны сексуальности. Благодаря психоанализу мы узнали, как сильно смущают и пугают детей их инфантильные сексуальные теории и в какой ужас может повергнуть ребенка случайное открытие существования сексуальности у его родителей. Разъяснение не только освобождает его от страха, оно открывает ему заманчивое существование другой любви, отличной по своей природе от — полной зависимости и страха перед «большими» — любви к родителям. У многих первобытных культур (сохранившихся и поныне) существовали обряды посвящения мальчиков в тайны сексуальности. В этом посвящении подчеркивается разница между «мужчинами, которые знают тайну, и женщинами и детьми, которым ее знать не дано». Основное значение посвящения заключается в открытии, что духов, которые до этого причиняли им столько страха, на самом деле не существует, что они служат лишь для устрашения детей и женщин, чтобы «тех можно было получше держать в руках».
Фигдор сравнивает этих духов с другими «духами», которые доставляют столько неприятностей матерям, отцам, воспитателям, учителям. Но в то же время, хотя «духи» эти и внушают большой страх, они выполняют и защитные функции: благодаря своей могучей власти они предотвращают еще большие угрозы или расчищают дорогу собственным бессознательным потребностям.
Предположим, я говорю себе: «Я — хорошая мать и поэтому я, («во имя ребенка») отказываюсь от своих личных потребностей» (среди которых могут быть желание сделать карьеру, потребность социального признания, сексуальная сторона жизни, покой, увлечения и т. д.). Но как бы замечательно ни звучало это на словах, на практике это не так. Ведь я живой человек и поэтому я не в состоянии отказаться от удовлетворения своих желаний без того, чтобы не чувствовать себя несчастной. А вытесненные потребности все равно будут настойчиво заявлять о себе, пусть даже достаточно субтильными способами: жалобами на жизнь, не неблагодарность детей, обидами и т. д. Не говоря уже о том, что подобная «самоотверженность» налагает непосильный груз на детей, вызывая в них чувство вины за приносимые им жертвы.
Или я говорю себе: «Я чувствую себя в настоящее время очень нехорошо, но мой ребенок не должен этого заметить». Да как же он этого не заметит? Как бы я ни старалась, он «прочтет» мое состояние по моему выражению лица и по моим жестам — у детей по отношению к родителям существуют необыкновенно чувствительные «антенны». Плохое самочувствие матери внушает ребенку страх. Поэтому разумнее было бы поговорить с ним о том, что это вовсе не он повинен в моем плохом самочувствии, и если я не в состоянии сейчас уделить ему необходимого внимания, то это вовсе не потому, что я на него сердита. И т. д.
А вот еще один весьма опасный «дух»: «Если я все буду делать правильно, то между мной и детьми никогда не возникнет никаких конфликтов». Или: «Хорошее, партнерское воспитание должно протекать без давления, без авторитета, без наказаний или их угрозы». Но такого просто не может быть! Во-первых, нет человека, который в состоянии был бы все делать «правильно», как не существует и самого этого объективного «правильно». И, во-вторых, разве все в моих отношениях с другими людьми может зависеть от меня одной? Фигдор называет это «нарциссической иллюзией», т. е. в такой позиции заложено нечто от «человеческой мании величия». Конечно, подобный подход к делу утешает самолюбие, но, с другой стороны, он налагает слишком большую, можно сказать, непосильную ответственность. В результате малейшая неудача грозит невыносимым чувством вины и потерей чувства собственной полноценности.
Читать дальше