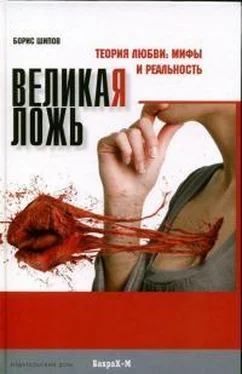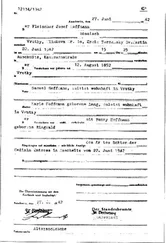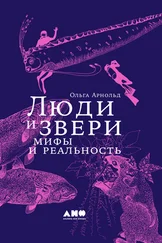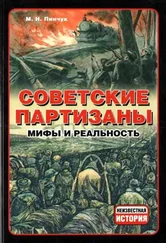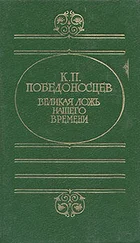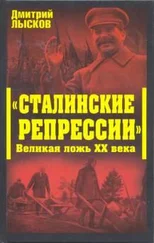Точно такую же методу видим и в «Философии любви». Напомню, что книга посвящена главным образом «половой (эротической) любви, являющейся парадигмой всякой любви». В статье, принадлежащей перу составителя сборника, на 124 страницах решается основной вопрос: о ее сущности. И понеслось: «Мы говорим об эротической любви и любви к самому себе, любви к человеку и к богу, любви к жизни и к родине, любви к истине и к добру, любви к свободе и к власти и т.д. Выделяются также любовь романтическая, рыцарская, платоническая, братская, родительская, харизматическая и т.п. Существуют любовь-страсть и любовь-жалость, любовь-нужда и любовь-дар, любовь к ближнему и любовь к дальнему, любовь мужчины и любовь женщины и т.д.» {10}.
Далее мы узнаем о существовании девяти кругов любви. При этом в первый круг включаются: «любовь половая и любовь к самому себе». Второй круг: «любовь к ближнему: к детям, братьям, сестрам, к родителям». Третий круг: «любовь к каждому иному человеку». Четвертый круг: «любовь к родине, к жизни, к богу». Пятый круг: «любовь к природе, и в частности космическая любовь». Шестой круг: «любовь к истине, любовь к добру, любовь к прекрасному, любовь к справедливости». Седьмой круг: «любовь к свободе, любовь к творчеству, любовь к власти, любовь к своей деятельности, любовь к богатству, любовь к “закону и порядку”». Восьмой круг: «любовь к игре, любовь к общению, любовь к собирательству, любовь к развлечениям». И, наконец, последний, девятый круг любви: «влечение к пище, пристрастие к сквернословию и т.п.».
Таким образом, в одну кучу валится все, что можно и что нельзя свалить, а потому ничуть не удивителен общий вывод из этого хаоса в самом последнем абзаце на самой последней, 509-й странице первого тома: «Но в любви, несомненно, есть и что-то непонятное, роковое и даже мистическое. И, возможно, что как раз эта, не поддающаяся объяснению, сторона тяготения душ друг к другу и является главным в любви» {11}.
Это ж надо! Марксистские философы договорились до мистического тяготения душ, каковое, несомненно, присутствует и, возможно, является главным в рассматриваемом ими вопросе; «Политиздат», идеологический рупор, их печатает, а весь могучий аппарат коммунистической цензуры ничего особенного не замечает. Попробовал бы доктор философских наук написать, что дружба порождается мистическим тяготением душ! Его не то что напечатали бы тиражом 300 тыс. экземпляров, из него на ученом совете после прочтения рукописи шашлык сделали бы. А философов любви печатают. Сверхмассовыми тиражами.
Примечательно, что такое происходит исключительно в теоретизированиях на темы половой любви. Во всех остальных случаях все делается совершенно иначе. Невозможно представить, чтобы пособие о патриотическом воспитании начиналась бы словами: «Это книга — о патриотизме, то есть о любви к Родине. Наряду с этим видом любви существует любовь между полами, а также влечение к пище и пристрастие к сквернословию. Будем рассматривать их в неразрывном единстве».
Еще смешнее, если бы в воскресной школе лекцию, посвященную любви к богу, святой отец начал бы с объединения ее с сексуальными страстями. А наоборот — делается причем, профессорами-богословами с именем.
Интересно, почему это, начиная про половую любовь, можно приплетать к ней патриотизм, Христа и всякие пристрастия, а, начиная про патриотизм или про Бога, соединить их с половым влечением никак нельзя? Да все потому что когда дело касается любви к Родине или к Богу, задачи запутать вопрос не стоит. Пусть и в узких догматических рамках, но все же стараются что-то понять и объяснить. А когда дело касается половой любви, стремятся именно запутать.
Другой пример. Возьмем нечто противоположное любви: жестокость. Она может иметь различное происхождение. У одного вспышки жестокости порождаются травмой мозга или психическим заболеванием. У другого с мозгами более или менее в порядке, зато есть неполадки в половой сфере, как у небезызвестного Чикатило. Одного в детстве унижали и подавляли, вследствие чего, став взрослым, он мстит окружающим, другого воспитывали наилучшим образом, да только направили воевать во Вьетнам, отчего у него развился «вьетнамский синдром».
Допустим, психологу, состоящему на службе в полиции, приносят кипу досье на лиц, совершивших одинаковые преступления: жестокие убийства совершенно незнакомых людей — и просят разобраться с их психологией. Первое, что сделает любой грамотный ученый, — рассортирует досье: сложит в одну стопку параноиков, в другую — «вьетнамцев» и т.п. После чего начнет изучать закономерности формирования их поведения в каждой группе отдельно. И невозможно даже помыслить о каком-либо ином подходе.
Читать дальше