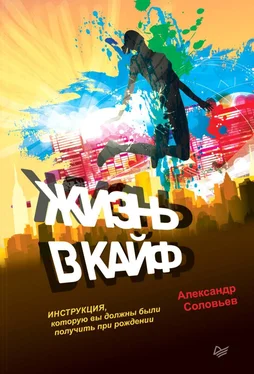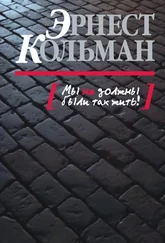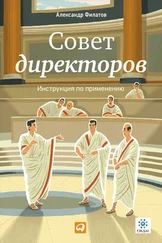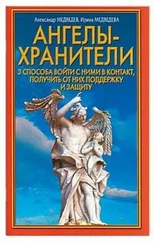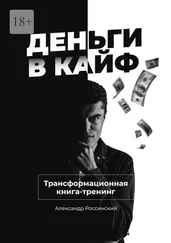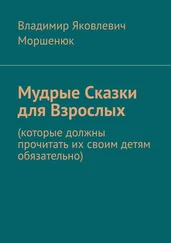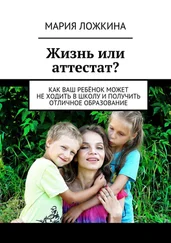Мы так привыкаем маскироваться перед окружающими, что в конце концов начинаем маскироваться перед самими собой.
Франсуа де Ларошфуко
Несмотря на это, способность воспринимать бытие в чистом виде остается и у взрослых, хотя доступ к ней затруднен. Ощущения, какими бы субъективными их ни считали философы, по-прежнему дают человеку самые честные представления о реальности. И наоборот – какими бы убедительными и точными ни были объективные знания, они всегда за пределами реальности. Вы наверняка согласитесь с тем, что не способны телесно воспринимать цифровое значение скорости света, массы водорода или данные спектрального анализа далекой планеты.
Живя той жизнью, которой нас научило общество, мы привыкли считать себя личностью. Мы знаем, что она представляет собой объект социальной жизни и состоит из качеств, воспитанных обществом. Мы также знаем, что личность обитает в коре головного мозга, где пользуется сознанием, памятью, воображением, мышлением и т. д.
Но что такое наша душа – то настоящее, досоциальное «Я», которое воплощено в нашем теле и для которого бытийность – врожденная форма существования и контакта с миром? Можем ли мы это объяснить? Прежде чем углубиться в освоение практики бытийности, мы должны разобраться с тем, что собой представляет эта сущность, которой мы собираемся вернуть ее естественное право быть.
Настоящее «Я», душа, или самость, – трудноопределимый объект психики и один из самых спорных терминов в психологии. Многие авторы предпочитают его обходить или упоминать как можно реже, поскольку те определения, которые даны этому феномену, вызывают немало вопросов и путаницы. Некоторые исследователи приписывают самости свойства эго-личности и наоборот.
Например, американский психиатр Гарри Стек Салливан считал, что самость возникает в процессе развития эго. Большинство же других психологов (к которым отношусь и я) сходятся на том, что самость первична, врожденна и является неким упорядочивающим принципом человеческой психики, его высшей инстанцией и одновременно чувством собственной идентичности. То есть «самость – это не то, что мы выбираем, а то, что выбирает нас» [10].
У Карла Юнга самость имеет трансличностную основу, выражает психическую целостность человека и, более того, предполагает высшую природу. То есть, по Юнгу, самость – это человеческая душа. Вот как он сам это объясняет: «С интеллектуальной точки зрения самость – не что иное, как психологическое понятие, конструкция, которая должна выражать неразличимую нами сущность, саму по себе для нас непостижимую, ибо она превосходит возможности нашего постижения, как явствует уже из ее определения. С таким же успехом ее можно назвать “богом в нас”. Начала всей нашей душевной жизни, кажется, уму непостижимым образом зарождаются в этой точке, и все высшие и последние цели, кажется, сходятся на ней» [11].
В своих рассуждениях о самости Юнг часто ссылается на индуистское мировоззрение, согласно которому весь мир пронизан единой и тотальной разумной душой – Атманом. Атман вечен и бесконечен, и в каждом живом существе проявляется индивидуально.
«Атхарваведа» называет это универсальное «Я» вечно юным, бессмертным; упанишады – «невидимой, неизреченной, неуловимой, неразличимой, немыслимой, неуказуемой сущностью»; «Йога-сутра» Махариши Патанджали – «вечным, чистым, счастливым». И каждое из данных древнеиндийских учений утверждает, что этот абсолютный всепронизывающий дух и является источником души, к которому однажды ей суждено вернуться.
В концепции буддизма индивидуальный Атман – это природа Будды, которая в практиках дзен отражается в наивысшей чистоте.
Даосская литература предлагает собственный термин и интерпретацию Атмана, подчеркивая его неуловимость, неопределимость и безграничность: «Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее дао; произвольно давая ей имя, назову ее великое» («Дао-дэ-дзин»).
Какие бы самобытные интерпретации ни создавали новые учения, они повторяют все те же древние теории, согласно которым Атман-дао-самость – универсальное всеохватывающее явление, лежащее в основе природы всего сущего, в том числе – индивидуального «Я» каждого человека. Это индивидуальное «Я» познаваемо с помощью особой практики, суть которой – сосредоточение и созерцание. Обретя контроль над сознанием, медитирующий мистик стремится постичь свое духовно-сущностное начало: он концентрируется на нем и таким образом постепенно освобождается от иллюзий, в то же время обнаруживая себя как проявление единого, абсолютного и неделимого высшего «Я» – Атмана.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу