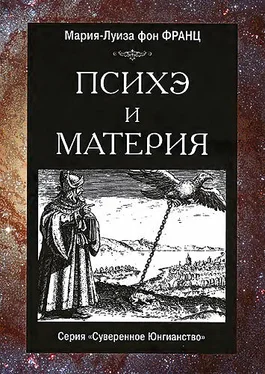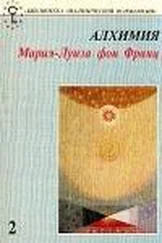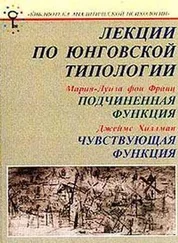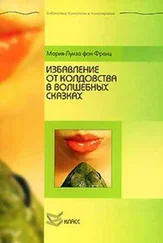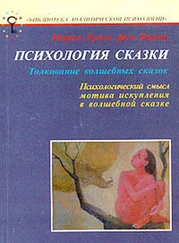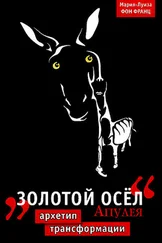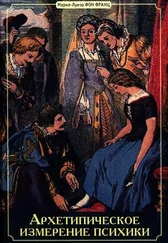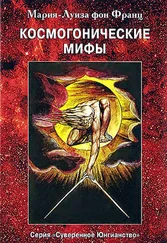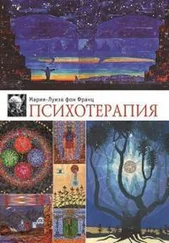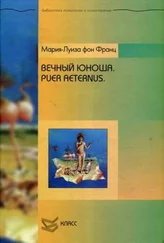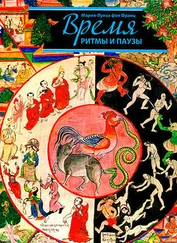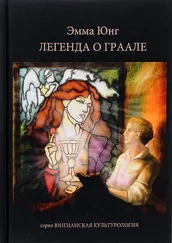Проблема сводится к вопросу; какова природа досознательной упорядоченности наших представлений и как это связывается с кажущейся упорядоченность или систематичностью внешних фактов? Концепция каузального детерминизма, похоже, связана с досознательной адаптацией нашей психики к закону энтропии и предполагаемой ею стреле времени (Ср. Costa de Beauregard, Le Second Principe, p. 112). Концепция синхронистичности, с другой стороны, похоже, основана на досозиательном выражении нашей психики в форме систем, структур или «гештальтов», определенных как одновременно присутствующее «целое» или «порядок». — Прим. авт.
Поскольку это до сих пор не было возможно, многие работы о кибернетики игнорируют фактор смысла. Но, как указывает Коста де Борегар, мы не можем просто уничтожить «resonnance psychique» [психический резонанс — прим. пер. ] Le Second Principe , p. 75. — Прим авт.
Ср. также Мartel Granet, La Pensie chinoise (Paris: Albin Michel, 1948). p. 173. Например, число 5 в Китае означает центр квартерной структуры. — Прим. авт.
Как указывает Манфред Поркерт в «Wissenschaftliches Den-ken im alten China — Das System der energetischen Bezie-hungen», в Antaios 2, no, 6 (1961). Концепция синхронистичности Юнга предоставляет нам догадку, с помощью которой можно понять некоторые аспекты китайской медицины и естественной науки, которые до сих пор отвергались как суеверия. — Прим. авт.
Курсив автора — Прим. авт.
Cp. Helmut Wilhelm, «The Concept of Time in the Book of Changes», в Man and Time, p. 219. Лейбниц также был с этим знаком и пытался использовать свою двоичную систему счисления для таких целей, См. его переписку с Бове. Cp. Н. Wilhelm: Leibniz and the I Ching, Collectanea Commissionis Symulnlr, 16 (Peking, 1943), p, 205, Cp. также Joseph Needham, Science and Cioiiiliniiuni in China (Cambridge: Cambridge University Press, 1954-59), vol. 2, p 340. — Прим. авт.
Jung, cw. 8. p. 457. Л.Б. ван дер Верден подчеркивает ( Einfalt und Uberlegung, p, 9), что на основе случайного бессознательного происхождения арифметических теорем мы должны предполагать, что бессознательное даже способно на рассуждения и суждения. — Прим. авт.
Как верно подчеркивает Паули (Aufsätze, р. 122), математические априорные озарения принадлежат к тому классу, который Юнг называет архетипическими представлениями, такими как арифметическая идея бесконечной последовательности целых или геометрического континуума, ведь это постоянно повторяющиеся идеи. Так как внутренняя логическая связность анализа не может быть формально доказана сама по себе, Паули добавляет, что мы должны найти ее корни вне математики. Мне кажется естественным факт связи с функционированием нашего разума. Здесь скова обнаруживается досознательная упорядоченность наших представлений. — Прим. авт.
D’Arcy Thompson. Growth and Form (Cambridge: Cambridge University Press, 1942). Джозеф Нидхэм возражает на это в работе «Biochemical Aspects of Form and Growth», опубликованной в Whyte, Accent on Form (p. 79), поскольку эти математические формы часто скрывают тайных «дьяволов витализма» Здесь я соглашусь с ним, если эти формы рассматриваются как «причины», а не как шаблоны, которые проявляются через синхронистичные явления. — Прим. авт.
Я бы предпочла это слово «информации». — Прим. авт.
Мне кажется, что если количественная концепция чисел в математике и кибернетике будет пересмотрена (т е. они не будут использоваться только как «инструмент счета»), а досознательные количественные элементы в нашем разуме будут исследованы совместно с глубинной психологией (без возврата к идеям магической каузальности, которые частично предполагаются китайскими представлениями о числах), мы сможем приблизиться к методу постижения акаузальной упорядоченности в точной форме. Может оказаться полезным, если биохимики смогут исследовать, какую роль играют числа в их области исследований. Тогда мы сможем приблизиться к «материальному» аспекту инстинктивных шаблонов поведения и эмоциональному фактору взаимопроникновения. — Прим. авт.
Таким образом, это также может помочь нам избегнуть опасности застрять в ловушке той древней аристотелевой внутренне противоречивой идеи о causa finalis (конечная причина — прим. пер. ), которая снова появилась в неофиналистских теориях. — Прим. авт.