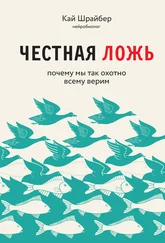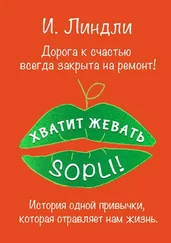Однако риск не должен быть излишне малым, поскольку механизмы обучения предполагают наличие так называемого сигнала об ошибке. Когда тучи сгущаются и мир серьезно угрожает нам, нашим поведением по большей части двигают автоматические и рефлекторные реакции, возникающие благодаря выбросу в кровь гормонов стресса. Чтобы повлиять на эти реакции, которые по сути схожи с рефлексами морского кролика, необходим сигнал об ошибке, который следует сразу за совершенным действием. Гнев, который испытывают дети, когда их укрытие раскрыто или когда во время игры в догонялки на плече оказывается рука другого, является самым верным признаком того, что они совершенствуются и что обучение достигает своей цели.
Для утопистов, которые предпочитают обходить неприятные чувства, новость, конечно, отнюдь не радостная. Может, полегчает, если уяснить простую мысль, что разочарование от проигрыша в игре может быть показателем прогресса. Ура! Снова мир, кажется, перевернулся с ног на голову. Играть и учиться – одно и то же, а разочарование от проигрыша – признак того, что в долгосрочной перспективе будешь выходить победителем.
Однако мы вовсе не хотим вместе с водой выплеснуть и ребенка. Хорошие эмоции также указывают на продвижение в обучении или, по крайней мере, на то, что ребенок освоил навык лучше, чем его конкурент или чем того ожидал учитель. Но это приятное чувство может оказаться и эффектом Даннинга – Крюгера в действии. Если, например, плохо спрятавшийся за занавеской трехлетний ребенок начинает принимать себя за иллюзиониста мирового класса, потому что его родители, обыскивая квартиру, громко расписываются в своей беспомощности, то этот малыш, скорее всего, так и не научился удалять свое тело из нашего пространственно-временного континуума, подобно джедаю. Просто он еще так мало понимает в том, что происходит, что его мозг не может выдать правильный сигнал об ошибке. Йода [37], тебя отлично видно за занавеской. Но такая полная переоценка себя для трехгодовалого ребенка за занавеской возможна только потому, что родители ему подыгрывают. Они подозревают, что правильный сигнал об ошибке не приведет к успеху в обучении, а лишь вызовет фрустрацию, и не дают ребенку должной обратной связи.
Играть и учиться – одно и то же, а разочарование от проигрыша – признак того, что в долгосрочной перспективе будешь выходить победителем.
Иначе дела обстоят с теми играми, из которых люди свое детское игровое поведение переносят на взрослую жизнь. В так называемых азартных играх с их порой невероятно высокими ставками больше нет участников, тупо блуждающих по квартире. Тот, кто сейчас неправильно оценит свои шансы, в того с хохотом ткнет пальцем суровая реальность. «Эй, ты плохо спрятался за занавеской, – крикнет она, зло ухмыляясь, – ставки сделаны, и ты проиграл».
Исторически вся математическая ветвь теории вероятностей берет свое начало в необходимости понимания игроками правил, следуя которым они буквально жизнь свою ставили на кон. Какова вероятность собрать всех тузов в игре в дурака? Насколько вероятно, что из 10 игроков за покерным столом у одного окажется 2 короля? Есть ли стратегия, чтобы выиграть в рулетку наверняка? Или еще практичнее: как мы можем быть уверены, что монета того немного подозрительного типа, с которым мы познакомились в пабе, – без подвоха? Если это так, то значит, она может упасть любой стороной с вероятностью 50 %. Или, строго говоря, монета падает на обе стороны с одинаковой вероятностью, потому что она может также, хотя и теоретически, встать на ребро.
Ведь мы-то знаем, что умелый фальсификатор в состоянии изготовить такую монету, с которой втрое чаще выпадает решка, поэтому мы начеку. Задача теории вероятностей теперь – вычислить законы случайности. Поначалу это может показаться несколько парадоксальным, ведь случайный результат непредсказуем и указывает на отсутствие каких-либо законов. Но даже если, всякий раз подбрасывая монетку, мы не знаем, выпадет орел или решка, мы все же можем предположить, что и то и другое примерно одинаково вероятно. Если при многократных попытках этого не происходит, значит, что-то не то либо с монетой, либо с фокусником.
Скажем, монету подбросили 50 раз, в 23 случаях выпала решка. Это достаточно близко к 50 %, и потому маловероятно, что монета фальшивая. Иначе решка выпадала бы в 3 раза чаще. Поддавшись азарту, мы ставим ферму со всем скотом на то, что при трех бросках дважды выпадет орел. Но в этот момент фокусник быстро сует монету в карман и тут же достает снова.
Читать дальше
![Кай Шрайбер Честная ложь [Почему мы продолжаем верить в то, что портит нам жизнь] [litres] обложка книги](/books/400711/kaj-shrajber-chestnaya-lozh-pochemu-my-prodolzhaem-ver-cover.webp)

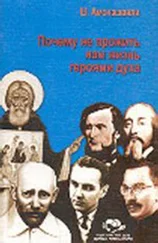
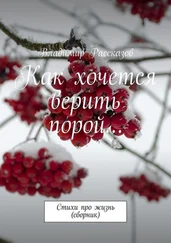

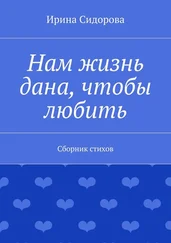
![Наталия Полянская - Девятая жизнь [litres]](/books/385474/nataliya-polyanskaya-devyataya-zhizn-litres-thumb.webp)
![Лора Гарнетт - Привычка гения [Как одна привычка может полностью изменить вашу работу и вашу жизнь] [litres]](/books/385616/lora-garnett-privychka-geniya-kak-odna-privychka-mozh-thumb.webp)
![Мари Ардмир - Отборная гадина, или Вы нужны нам, Лилли [litres]](/books/400203/mari-ardmir-otbornaya-gadina-ili-vy-nuzhny-nam-lil-thumb.webp)
![Андрей Величко - Фагоцит. Покой нам только снится [litres]](/books/418491/andrej-velichko-fagocit-pokoj-nam-tolko-snitsya-l-thumb.webp)
![Ольга Коробкова - Вы нам подходите [litres]](/books/420730/olga-korobkova-vy-nam-podhodite-litres-thumb.webp)