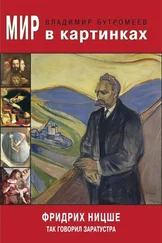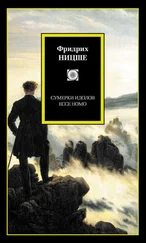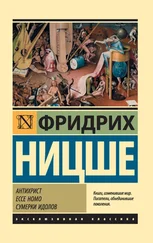Библейское сказание об Аврааме рассматривается Кьеркегором как пример «телеологического отстранения этического», то есть «скачка», перехода от этической стадии к религиозной. Испытывая веру Авраама, бог требует: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение…» (Быт. 22:2). Лишь в последнее мгновение, когда Авраам поднял руку с ножом, ангел останавливает его. По Кьеркегору, Авраам «действует в силу абсурда, поскольку это тот самый абсурд, по которому он как индивид выше общего». Если Авраам начнет размышлять, то поставит веру под сомнение, сочтет требование бога соблазном, откажется от преступного с точки зрения этики действия. Мышление, этические требования принадлежат общему, тогда как вера является парадоксом. Необъяснимо, как Авраам пришел к парадоксу веры, необъяснимо и то, что он продолжает находиться в нем. «Если это не так в случае с Авраамом, то он даже не трагический герой, но убийца. Продолжать называть его отцом веры, говорить об этом людям, которые не заботятся ни о чем, кроме слов, бессмысленно». Вывод Кьеркегора: вера есть чудо, и вера есть страсть, она лежит за пределами всеобщих категорий мышления и этических норм. Сартр сводит «тревогу Авраама» к чувству личной ответственности в акте выбора, который также оказывается за пределами этических ценностей: выбранная возможность «имеет ценность именно потому, что выбрана».
«Когда около 1880 г. некоторые французские профессора пытались выработать светскую мораль…» Речь идет об университетской философии в условиях конфликта между III республикой и католической церковью. После смещения с поста президента маршала Мак-Магона (1879) была провозглашена «светская, демократическая и парламентская республика». Хотя окончательное отделение церкви от государства произошло только в 1905 г., уже в 80-е гг. прошлого века наблюдалась конфронтация республики с католической церковью, в частности, в связи с реформой системы образования. В этих условиях университетская философия, оставаясь идеалистической и даже спиритуалистической, противопоставляла светскую мораль церковному учению, автономную моральную личность — божественному откровению. С точки зрения Сартра, принципиальной разницы между религиозной моралью и светской буржуазной моралью нет: социальные нормы, этические предписания и идеалы в обоих случаях навязываются человеку извне, только на место бога буржуазия поставила выгодный ей социальный порядок.
«Достоевский как-то писал, что „если бога нет, то все дозволено“». Слова принадлежат герою романа «Братья Карамазовы» Ивану Карамазову, а не самому Достоевскому, который был решительным противником этического релятивизма и нигилизма, подвергая их резкой критике с позиций религиозного мировоззрения. На Западе Достоевского часто записывают в предтечи экзистенциализма, поскольку во многих его романах («Записки из подполья», «Бесы», «Братья Карамазовы» и др.) поднимаются те же, что в экзистенциальной философии, проблемы. Особую значимость для представителей французского атеистического экзистенциализма имели суждения и судьбы таких героев романов Достоевского, как Кириллов, Ставрогин, Иван Карамазов (см. примечания к «Мифу о Сизифе» А. Камю).
Детерминизм (от лат. determinatio — определяю) — философское учение об объективной закономерности явлений, о взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений природы и общества. Как и все представители экзистенциализма, Сартр является индетерминистом, то есть отвергает обусловленность человеческих поступков внешними причинами.
Понж Франсис (род. в 1899) — французский поэт, для творчества которого характерно стремление ответить на «вызов, который бросают нам вещи», очистить язык поэзии от условностей, личных переживаний созерцающего мир поэта. Окружающий нас мир должен быть постигнут как бы заново, впервые, так, словно вещи могут обнаружить себя сами, без вмешательства сознания человека, независимо от накопленных человечеством культурных навыков, установок привычек. Сартр рассматривал поэзию Понжа как родственную по духу экзистенциалистской философии, имея в виду проводимое им самим разделение «для-себя-бытия», то есть отождествленного с «ничто», с «дырой в бытии» сознания, и «в-себе-бытия», то есть мира вещей, к которому относятся и все чувственно воспринимаемые качества.
Читать дальше
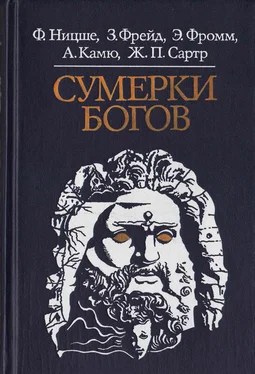

![Фридрих Ницше - Песни Заратустры [сборник]](/books/28216/fridrih-nicshe-pesni-zaratustry-sbornik-thumb.webp)