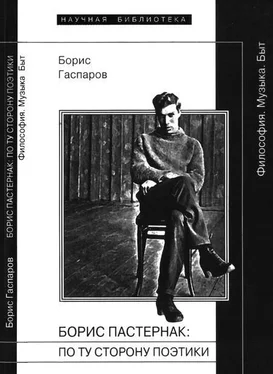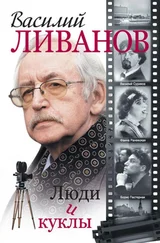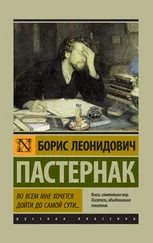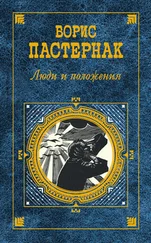Как и подобает триединству, оно «нераздельно и неслиянно», то есть проявляет себя не в сумме отдельных упоминаний, равно как и не в эпизодическом резонерстве на музыкальные или философские темы. Рассмотрение этих трех аспектов Пастернака — метафизического ощущения мира, внутренней музыкальности, общей направленности поэтических образов — в их взаимосвязи и взаимодействии составляет предмет предлагаемой книги.
Метафизике Пастернака (именно метафизике как самой общей проблеме соотношения познающего сознания и художественно-познаваемой действительности, далеко выходящей за рамки прикладной «философии искусства»), с одной стороны, и его музыкальности (понимаемой, опять-таки, как принцип мышления, а не набор аллюзий или внешних композиционных приемов), с другой, будут посвящены две первые части этой книги. Сейчас же мне хочется сказать несколько слов о третьем компоненте триединства, то есть собственно о «поэзии».
Тут приходится сразу заявить, что предлагаемое вниманию читателя исследование сознательно стремится уклониться с хорошо разработанного интеллектуального пути, связанного с изучением «поэтики» Пастернака. Это совсем не означает, что я не ценю или собираюсь игнорировать все богатство наблюдений над построением образов у Пастернака, фактурой его языка и стиха, интертекстуальными перекличками, накопленное в литературе о предмете. И тем не менее, в применении к Пастернаку кажется уместным поставить слово «поэтика» в кавычки. Если говорить о творческом самоощущении Пастернака, ничто не может быть дальше от него, чем какие-либо интересы поэтики или риторики как таковой. Уникальность Пастернака — не в тех или иных, действительно ярко оригинальных, чертах его поэтического самовыражения; а в том, что в своем самосознании он вообще не является «поэтом» — отказывается им быть и, всю жизнь занимаясь словесным творчеством с безупречным профессионализмом и полной самоотдачей, прилагает чрезвычайные духовные усилия, чтобы не утратить внутреннюю отчужденность от мира литературы и литературности и сознание ненамеренности, даже постыдности своего в нем присутствия. Пастернаку важно сохранять ощущение, что не он создает некое произведение в качестве «поэта», а «им пишет» нечто, неизмеримо большее не только этого произведения и его создателя, но вообще «поэзии» как некоего института. При всей захватывающей виртуозности его художественной формы, в самосознании автора она предстает как нечто ненарочитое и сугубо инструментальное: как отпечаток или отголосок, почти случайный и заведомо несовершенный, спонтанного движения мысли, как след усилия это постоянно ускользающее движение поймать и запечатлеть.
Знаменитый тезис о «метонимичности» стиля Пастернака в классической статье Якобсона 1987 [1935], многое объяснивший в особенностях его стиля, но и давший ход удивительно прямолинейной погоне за метонимиями как его риторическими опознавательными знаками (как будто школьническая классификация смыслов как «метафор» и «метонимий» приложима к значению поэтического слова), служит, быть может, самым ярким примером того, как даже исключительно интересное наблюдение проскакивает мимо цели, если настаивать на нем как на категории пастернаковской «поэтики». Ее суть, конечно, не в каком-то особенном изобилии у Пастернака метонимий, а в «горизонтальной» стратегии репрезентации действительности [10] Енсен 1995 формулирует эту проблему в качестве двух контрастных принципов использования языка: «вглубь» и «поперек».
(того, что Ф. Шлегель называл «аллегорией», в противовес символу [11] Paul de Man 1983.
). Концепция Якобсона, определяющая поэзию Пастернака с точки зрения ее «фактуры», то есть в ключе эстетики и литературной теории футуризма, при всей ее эмпирической проницательности, уводит в сторону от предмета, словно по касательной (или, если вспомнить отзыв Пастернака о «приемах», разработанных Формальной школой, «замирает на самых обещающих подъемах» [12] Письмо П. Н. Медведеву 20 авг. 1928 г. Впервые опубликовано: Суперфин 1973. Цит. по СС, 5: 278–280.
), тем, что игнорирует мотивационную энергию, вызвавшую эту «фактуру» к жизни. Метонимический стиль Пастернака — не риторический артефакт, конструируемый во имя некоего «художественного» эффекта; его метонимичность — это метонимичность субъективного взгляда, скользящего от одного образа-предмета к другому в лихорадочной погоне за «разбегающейся», ускользающей действительностью.
Читать дальше