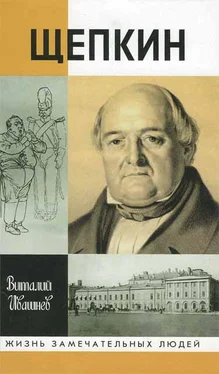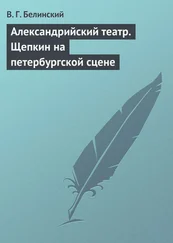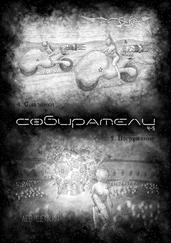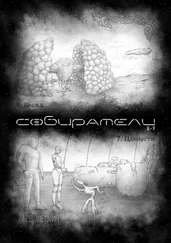Если цель поездки к Тарасу Григорьевичу Шевченко в Нижний Новгород была схожа с тургеневской — ободрить, утешить, придать бодрости в их вынужденном уединении, то его вояж к берегам туманного Альбиона имел иное назначение.
Конечно, не ради увеселительной прогулки отправился этот уже совсем немолодой и далеко не идеального здоровья человек в такое рискованное путешествие, подвергая себя не только немалым физическим нагрузкам, но и испытаниям на благонадежность, которые могли быть куда серьезнее, чем последствия от визитов к ссыльным Тургеневу и Шевченко. Отправиться к политическому изгнаннику с его «Колоколом», призывавшему соотечественников бороться с самодержавием, было равносильно открытому вызову властям.
А дело было так. Щепкину предстояла поездка во Францию. Николай Христофорович Кетчер и Александр Николаевич Афанасьев, считая эмиграцию Герцена из России малодушием, не могли смириться с потерей «такого голоса в русской литературе» и в запальчивости склонны были обвинить его в «бегстве от друзей», в нежелании разделить с народом все тяготы борьбы с самодержавием. «Да, оставаться и работать, хотя под ножом!» — бросал упрек старшему товарищу пребывавший тогда в юношеском максимализме Афанасьев. «А что будет с Россией, если все начнут оставлять се?!» — возмущались другие. Вот и созрело решение: учитывая добрые дружеские отношения Щепкина и Герцена, авторитет артиста и способность убеждать собеседников, просить Михаила Семеновича совместить его французскую поездку с посещением Герцена, чтобы лично передать ему мнение московских друзей и уговорить вернуться на родину. Убеждать в чем-либо Щепкина не пришлось, он и сам горел желанием повидать Герцена и был солидарен с теми, кто желал его возвращения в Россию.
Для Герцена встреча со Щепкиным, который, по его словам, держался с ним «на короткой дружеской ноге родного дяди или старшего брата», и вовсе была радостью несказанной, самый дорогой подарок в самые тяжелые дни его зарубежного бытия. Получив известие о скором приезде Михаила Семеновича, записывает Герцен в «Былом и думах», «я испугался от радости… В образе светлого старика выходила молодая жизнь из-за гробов: весь московский период… и в какое время… Я был совершенно одинок в толпе чужих и полузнакомых лиц… Русские в это время всего меньше ездили за границу и всего больше боялись меня… И первый русский, ехавший в Лондон, не побоявшийся по-старому протянуть мне руку, был Михаил Семенович».
Память, сменяя одну картину за другой, тут же подала из прошлого счастливые, казавшиеся теперь уже далекими лица друзей, живописные уголки неповторимой российской природы, гостиные домов, где «некогда царил А. С. Пушкин; где… декабристы задавали тон; где смеялся Грибоедов; где… А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал; где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где… наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгрива ракета, Белинский, выжигая все, что попадало»…
Александр Иванович, уведомленный о приезде Щепкина, пошел заранее на пристань встречать старого друга. Он с беспокойством и нетерпением всматривался в пассажиров, заполнивших палубу, в надежде отыскать приметную фигуру дорогого человека. И едва на пристань были сброшены сходни, оттолкнув вставшего было на пути полицейского, «сбежал на палубу и бросился на шею старику. Он был тот же, — записал потом в «Былом и думах» Герцен, — как я его оставил: с тем же добродушным видом, жилет и лацканы на пальто так же в пятнах, точно будто сейчас шел из Троицкого трактира к Сергею Тимофеевичу Аксакову».
Михаил Семенович привез Герцену письма московских друзей, нелегальную литературу, чему лондонский издатель «Колокола» был особо рад, но больше всего утешился тем, что на родине его не забыли и «не переставали любить». Читая письма, Александр Иванович был так растроган, что не мог скрыть набежавшую слезу. Однако, успокоившись, обнаружил, что не все его заказы выполнены, кое-какой нужной корреспонденции не обнаружилось. Например, он не получил запрещенных стихов Пушкина и Лермонтова, которые по предварительной договоренности ему должны были передать москвичи. Ведь должны знать, что «при выезде… ничего не осматривается». «…В чем была опасность прислать Пушкина и Лермонтова стихи? Будто один Грановский знал об отъезде Михаила Семеновича, а Кетчер, а другие?..» — с горечью возмущался писатель. К досаде на друзей, не выполнивших просьбы Герцена, примешивалась обида на тех, кто был прежде ближе всего в дружбе, но теперь не подал и короткой весточки о себе.
Читать дальше