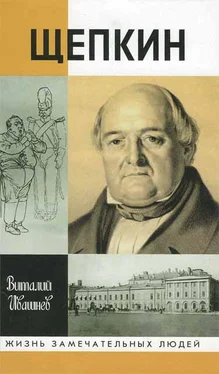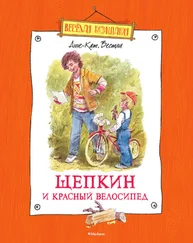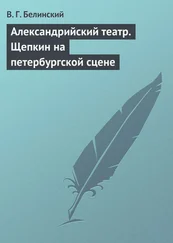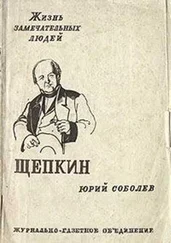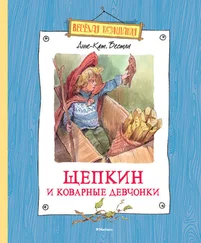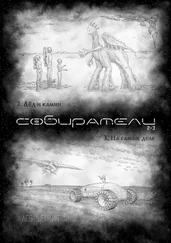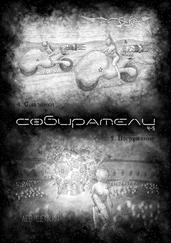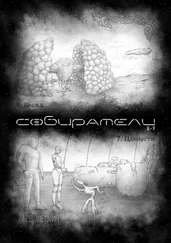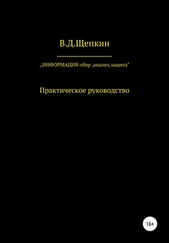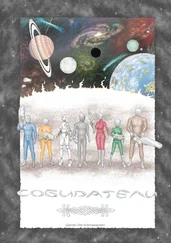Тургенев встречался с Гоголем и в литературном салоне княгини А. П. Елагиной, но прямого знакомства их тогда не состоялось. Присутствовал Тургенев и на премьере «Ревизора» в Александрийском театре, где мог видеть драматурга, зажавшегося в кресле, не зная, как скрыться от стыда, досады и разочарования.
Не пройдет и двух десятилетий, как именно Гоголь признает в Тургеневе своего преемника, обмолвившись, что среди современников в русской литературе «больше всех таланту у него».
Смерть Гоголя, как и великого Пушкина, печать обойдет молчанием из-за цензурного запрета. После безуспешных попыток опубликовать статью о Гоголе в одном из петербургских журналов Тургенев уже без особой надежды на успех переправил ее своим друзьям в Москву. Из перехваченных цензурой писем начальству Третьего отделения стало известно об этом намерении и сообщено в Москву. Опоздали! Тургеневское «Письмо из Петербурга», в котором он посмел Гоголя назвать великим, вышло в «Московских ведомостях». Это было проявлением гражданской смелости, что не замедлило сказаться на его судьбе, но писателя тогда это заботило мало. Важно было отдать последний долг памяти писателю, которого он считал гордостью, болью и совестью русской литературы.
Почти одновременно с «Письмом» Иван Сергеевич делится своей печалью с И. С. Аксаковым: «… Скажу вам без преувеличения, с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя… Эта страшная смерть — историческое событие — понятна не сразу; это тайна, тяжелая, грозная тайна — надо стараться ее разгадать… Но ничего отрадного не найдет тот, кто ее разгадает… Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к ее недрам — ни одному человеку, самому сильному духом, не выдержать в себе борьбу целого народа — и Гоголь погиб!» Пророческие слова! А ведь многие современники «видели в Гоголе только юмориста английского типа», хуже того, пытались наклеить ярлык «лакейского писателя».
Много утрат пережил Щепкин, но прощание с Гоголем было невыносимо тяжелым, самым горестным. Никогда еще он не впадал в такую апатию, потеряв вкус к жизни. «Когда Н. В. Гоголь скончался, — вспоминал младший брат Михаила Семеновича, — он совсем опустился и оставил уже все свои надежды на будущность. В последнее время он беспрерывно хандрил, тосковал, одним словом, выказывал все свое душевное изнеможение, к которому мало-помалу стало присоединяться и физическое расстройство организма».
И все же он находит в себе силы, чтобы включиться в хлопоты по подготовке и изданию посмертного литературного наследия писателя, главным образом по преодолению чиновничьих и цензурных запретов. Он совершает поездки в Питер, используя все связи и знакомства, добивается аудиенции у влиятельных особ. С волнением и убедительностью доказывает необыкновенность и уникальность таланта Гоголя, огромное его значения для всей русской литературы и культуры, настаивает ради потомков, ради славы России снять с его творческого наследия опалу и запреты. Щепкин включает в свой репертуар гоголевские пьесы, читает отрывки из его прозаических произведений. Е. Ф. Корш сообщает в связи с этим своим московским друзьям, что Щепкин в Петербурге «ратует за Гоголя с изумительным рвением и жаром и разогрел уже многих не только значительных, но и высоких особ». Князь Д. А. Оболенский, совмещавший в себе призвания литератора и важного чиновника, подтверждает то же самое: «При помощи друзей… Щепкину не раз посчастливилось читать Гоголя в присутствии покойной великой княгини Елены Павловны и великого князя Константина Николаевича. Кроме искусства читать М. С. Щепкин, весь проникнутый любовью и уважением к памяти покойного своего друга, умел так трогательно рассказывать о нем свои воспоминания и так живо изображал всю несправедливость гонения на его память, что невольно подчинял своему убеждению самых равнодушных слушателей. Горючими слезами оканчивал обыкновенно Михаил Семенович свою защиту, и я не раз был свидетелем, как благотворно действовали эти слезы». Усилия Щепкина не пропали даром. К его великой радости дело посмертного издания произведений писателя не только сдвинулось с места, но и «закипело».
Сближение Щепкина с Тургеневым может показаться поначалу странным и неожиданным. Уж больно велика разница в годах — Михаилу Семеновичу недалеко до шестидесяти, а Ивану Сергеевичу нет и тридцати. Да и происхождение больно разное: один — бывший крепостной, зависимый человек, другой — потомственный дворянин, помещик. Но все эти обстоятельства не стали преградой на пути их друг к другу.
Читать дальше