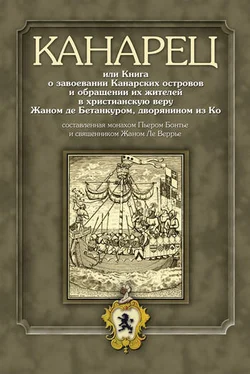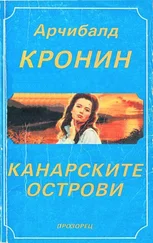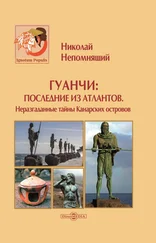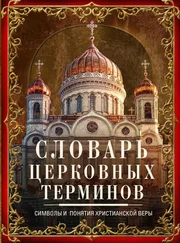В таком драматическом контексте обращение европейцев к заморской экспансии на рубеже XIII – XIV вв. кажется парадоксальным. Не вызывает удивления тот факт, что демографический рост и неспособность средневековой социально-экономической системы адаптировать «излишки» народонаселения породили в XI – XIII вв. масштабную внутреннюю и внешнюю экспансию Европы практически во всех направлениях. Вполне логично и то, что Крестовые походы в значительной мере приобрели характер военно-колонизационного движения. Можно было бы ожидать, что в XIV в. резкое сокращение численности населения снимет прежнее демографическое напряжение и устранит необходимость экспансии. Так почему же у этого «мира домоседов», каким, по выражению Жака Ле Гоффа, стала Европа XIV – XV вв. [11] Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 127.
, тем не менее вновь возникла потребность в расширении своего пространства и освоении (даже колонизации) новых земель?
Ответ на этот вопрос не может быть простым, ибо связан как с определенными чертами средневековой западной цивилизации, так и со специфическими последствиями кризиса XIV в. Факторы, способствовавшие возникновению этой потребности, различны, и их следует искать в разных сферах жизни европейского общества.
Тот же Ле Гофф говорит о необычайной мобильности средневековых людей, которую объясняет отсутствием собственности как материальной и психологической реальности и христианским представлением о человеке как вечном страннике на этой земле изгнания [12] Там же. С. 126 – 127.
. Несколько утрируя, он говорит, имея в виду рыцарей XII – XIII вв.: «...все они легко покидали родину, потому что вряд ли она у них была» [13] Там же. С. 127.
. Действительно, неудовлетворенность средневекового человека находила разрешение в поиске, но поиске особого рода – пространственном. Эта неудовлетворенность была в его глазах сущностно связана с тем местом, в котором он находился, поэтому процесс обретения лучшей доли подразумевал передвижение в пространстве (паломничество, путешествие) и завершался обретением (временным или постоянным) нового места в этом пространстве, с которым он отныне себя ассоциировал. Перемещение в пространстве открывало для средневекового человека перспективу избавления – как от нынешнего, не удовлетворявшего его социального и имущественного положения, так и от консервирующих это положение тех социальных ролей, которые он должен был играть в рамках той или иной группы. Такое отношение составляло психологическую основу крестоносного движения, оно же стало психологической основой заморской экспансии конца Средневековья.
Средневековый человек, не удовлетворенный своим положением и жесткой заданностью предписанных обществом и церковью моделей поведения, испытывал потребность в движении – как реальном (по суше или морю), так и иллюзорном (в своем сознании). Мир, который рисовала его фантазия, сочетал характеристики, рожденные как христианской мифологией, так и народной культурой – воображение соединяло земной рай со сказочной экзотикой. Принцип этого конструирования был скорее негативным: оно восполняло отсутствующее, то, чего не хватало средневековому человеку в его настоящей жизни. Естественно, иллюзорный мир, к которому он стремился приблизиться, не мог располагаться в знакомом пространстве и с расширением географических знаний об ойкумене был обречен все более удаляться от «точки отправления» его странствий.
Кризис XIV в. резко усилил восприятие европейцами своего пространства – христианского Запада – как юдоли скорби, как земли, где они осуждены на физические и душевные страдания. Масштаб природных и социальных бедствий и их повторяемость укрепляли у людей ощущение неустойчивости самого порядка человеческого существования и ощущение беззащитности перед буйством внешних сил. Эти ощущения обострялись по мере того как основные институты, призванные защитить средневекового человека от превратностей окружающего мира, защитить и физически, и психологически, – церковь, государство, община, профессиональная корпорация – демонстрировали свою неспособность справиться с волнами катастроф. И как следствие сами эти институты утрачивали свой авторитет и погружались в кризис. Католическая церковь переживает в XIV в. один из тяжелейших этапов в своей истории [14] См. об этом: Cantor N. Op. cit. P. 496-498; OzmentS.E. The Age of Reform, 1250 – 1550: An Intellectual and Religious History of Late Medieval and Reformation Europe. New Haven; London, 1980. P. 158-164.
: длившееся большую часть столетия Авиньонское пленение пап (1309 – 1377 гг.) сменяется Великой схизмой (1378 – 1417 гг.). В глазах многих европейцев, воспринимавших бедствия XIV в. как небесное наказание за человеческие грехи, Церковь предстает частью этой греховности: она уже перестала быть хранительницей духовного здоровья христиан, она обмирщилась, увлекшись накоплением богатств, борьбой за власть и забыв о долге перед своей паствой. Она то выполняет волю королей Франции, то раздирается соперничеством партий и честолюбивых прелатов. Дискредитация Церкви создает духовный и психологический вакуум, который верующие пытаются заполнить самыми разными способами – паломничеством к святым местам (число их резко возрастает), обращением к древним христианским способам избавления от греховности (флагеллянты) и к мистическим учениям (Мастер Экхарт и др.). Растет популярность нищенствующих монашеских орденов с их проповедью аскетизма, особенно францисканцев, распространяются еретические движения эгалитаристской ориентации (лолларды), находят большой общественный отклик идея «деполитизации» Церкви (Джон Виклиф [15] См. о нем: Kenny A. Wyclif. Oxford, 1985.
) и идея церковной реформы (соборное движение).
Читать дальше