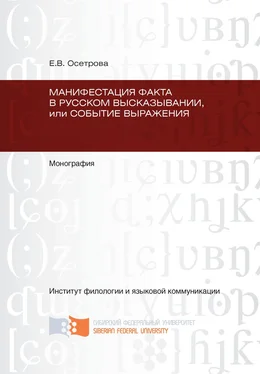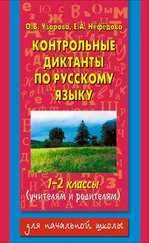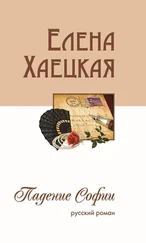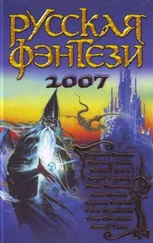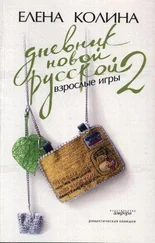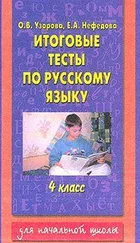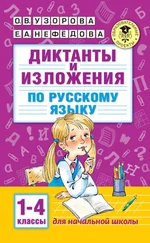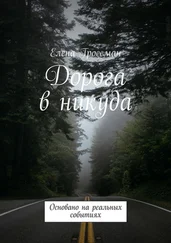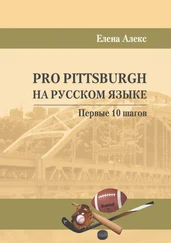Укажем и на иное понимание «факта» как метаязыкового классификатора эпистемического (относящегося к мнению и знанию) плана [Арутюнова 1999: 488–489; Коньков, Неупокоева 2011: 148– 149], противопоставленного «событию» в рамках концептуального анализа и когнитивной лингвистики. Впрочем, даже в этой традиции констатируют смешение «фактов» и «событий», признавая, что «удар оземь» не станет для него [факта] губительным, а смешение с именами онтологического плана не будет воспринято как нечто совершенно противное его природе [Арутюнова 1999: 505].
Под термином «манифестация» [Хэмп 1964: 107] с учетом его латинской этимологии (manifēstāre – делать явным, показывать) мы понимаем процесс, состояние или качество, которые превращают скрытый или затрудненный для восприятия факт в очевидный – обнаруживают его, делают доступным для наблюдателя. Термином в аналогичном значении пользуются в работах по семиотике [Вайнштейн 1993: 82], невербальной семиотике [Крейдлин 2000а: 34, 37], прагматике [Тарасова 1993], дискурсу СМИ [Володина 2004: 27], когнитивной лингвистике [Алефиренко 2009: 95].
Итак, ситуация манифестации – важный фрагмент окружающего мира, в пространстве которого активным субъектом с завидной регулярностью выступает каждый из нас. Следовательно, она не может не быть осмыслена языковым сознанием.
Исходя из этих соображений, попробуем посмотреть на феномен под иным углом зрения, разместив в центре внимания его языковой образ: «Отношение языка к внеязыковой реальности – одна из коренных проблем <���…> Язык создает свой мир. Одновременно возникает вопрос о степени адекватности мира, создаваемого языком, и мира, существующего вне связи с языком, лежащего за его пределами» [Лотман 1992б: 8]; см. о том же [Киклевич 2007: 179, 186–187].
Концептуальная взаимосвязь «мир – язык» прочерчивает и прямо противоположный вектор интереса: сама действительность заставляет подробно разбираться в отражениях, возникающих в мощнейшем зеркале универсума – языке. Эту идею развивает в своих работах В.В. Богданов.
Эпоху, начавшуюся со второй половины ХХ в., называют информационной, и ее ведущие технологии имеют ярко выраженный информационный характер. Электронные СМИ, электронная почта, Интернет, компьютеры, гаджеты, беспроводные коммуникационные системы определяют менталитет, типичный для данной эпохи. Характерные его черты – «интерес к сведениям, знаниям, информации, ее восприятию, интерпретации и пониманию. Данная всеобщая тенденция проявляется в лингвистике поворотом к изучению преимущественно содержательной стороны языка. По словам Б.Ю. Городецкого, "семантика старается занять подобающее ей место в лингвистической теории, стремясь образовать ядро науки о языке и подвергнуть полному пересмотру направление исследований в описательной лингвистике". В фокусе внимания оказывается содержание … Это явление условно и не очень терминологично можно назвать «вторым пришествием» содержания в мир» [Богданов 2007: 224].
Итак, у автора книги возникает сугубо профессиональный – лингвистический – интерес: каким образом ситуация Манифестации Факта, важнейшей составляющей которой является событие выражения, отражена в языковой картине мира. Такая формулировка заставляет ставить вопросы, ответы на которые с разной степенью полноты даны ниже и содержание которых задает ход дальнейших рассуждений; а именно, необходимо
▪ исчислить элементы ситуации на экстралингвистическом (внеязыковом) и пропозитивном (языковом) уровнях в ее типовом и потенциальном вариантах;
▪ описать языковые формы воплощения ситуации;
▪ вычленить центральный элемент, организующий событие выражения, и через это раскрыть его специфику, прояснив, что выделяет его из непрерывного событийного потока и как это отражено в языковой картине мира;
▪ выявить основные принципы и механизмы, руководящие текстовой «жизнью» объекта.
В качестве источников использованы тексты художественной литературы XIX–XXI вв., российская периодическая печать, ряд контекстов из «Словаря русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, выборка лексем из этого словаря, а также из «Словаря сочетаемости слов русского языка» под редакцией П.Н. Денисова и В.В. Морковкина и «Русского семантического словаря» под редакцией Н.Ю. Шведовой. Картотека включает три тысячи иллюстративных единиц. Это образования разного типа – от простых предложений до объемных текстовых фрагментов, что продиктовано прежде всего сложностью самого объекта. Как отмечает В.Г. Гак, расширение материала закономерно при ономасиологическом подходе, поскольку он принципиально безразличен к статусу используемых для выражения данного значения языковых средств [Гак 1985: 15; Ускова 2012: 42].
Читать дальше