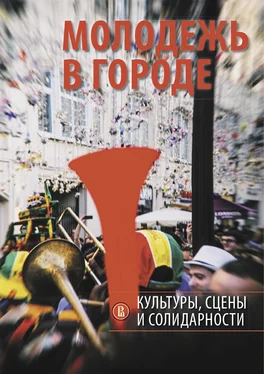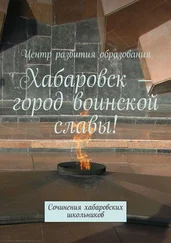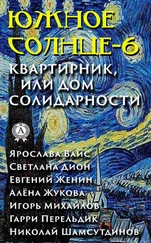Реализуя проект, мы стремились понять, какие повседневные практики сопровождают реальную или мифическую вовлеченность молодежи, существует ли «слепое» следование западным образцам и что это за образцы. И главное, как в связи с этим формируется образ России.
Во-первых, Запада как целого в восприятии молодежи не существовало. Основными каналами передачи знания были личное знакомство с другими странами (учеба, туризм, родственные связи, поездки друзей), кино и видео, журналы, телевидение и слухи. Наиболее критичными к Западу (в его разных ликах) были самые вовлеченные, менее критичными, а значит, и более восторженными – те, кто строил образы Запада по фильмам, слухам и красочным поп-героям. Во-вторых, Запад географически мог располагаться как исключительно в Северной Америке или Старой Европе, так и в Японии. Он мог быть «страной» настоящего кино (это США) или настоящей музыки (Великобритания), а мог быть и родиной порнофильмов (Германия). Его адрес и размеры менялись в зависимости от личного опыта общения, уровня образования, доступа к информации. В-третьих, мы обнаружили, что во всех трех городах, где осуществлялся проект, молодежные культурные сцены отличала общая тенденция: важность самоопределения в отношении продвинутых и нормальных и отнесения себя/своей компании к тем или другим.
И наконец, вместо образа привлекательного и манящего Запада мы обнаружили рост стихийного патриотизма , своего рода любви к России или тоски по ней, даже обиды, что молодость проходит в стране, «где все не так». В качестве защитной системы формируется по-своему привлекательный образ России – как зеркальное отражение того, что признавалось негативными чертами Запада: информанты описывали западный образ жизни, образование, культурный уровень, личные коммуникации как лишенные самых важных для российского человека качеств душевности, искренности, теплоты и открытости.
Ключевые перемены культурного молодежного пространства
Вместе с изменениями субкультурных ландшафтов городов меняется и общее культурное состояние молодежного пространства. Остановлюсь кратко на особенностях развития музыкальных сцен в этот период, ставший своего рода колыбелью «русского рока».
Существует достаточно обширный корпус как отечественной, так и зарубежной литературы в академическом и популярном формате, посвященный этому периоду развития российского андеграунда [Волков, Гурьев, 2017].
Отмечу некоторые черты этого уникального феномена [23] Период 1980-х годов – время появления и бурного развития не только групп в жанре популярной музыки («Земляне», «НА-НА», «Кар-мен», «Ласковый май»), но и так называемых рок-групп (ДДТ, «Альянс», «Моральный кодекс», «Парк Горького», «Аквариум», «Наутилус-Помпилиус»). Мировой тренд на условный рок существует до середины 1990-х. Важной приметой развития музыкальных сцен того времени становится сильное влияние рок-сцены на популярную музыку (попсу), которая заимствует все свои ключевые «фишки» из рок-культуры 1980-х.
. Отечественный рок представлял собой относительно автономное явление: музыкально – как особый звуковой и сценический формат – российские группы не были «роком», что помешало им полностью включиться в глобальное направление. Мелодико-гармонически это было своего рода сочетание бардовской песни, попсы, а также музыкальных интонаций и созвучий, характерных для западного рока, однако тексты песен отличались типичными для рок-андеграунда протестностью и символизмом. Влияние западных образцов рок-музыки и звездных форматов попсы было отчетливо заметно на всех развивающихся музыкальных сценах того периода, с некоторым опозданием и очевидным упрощением их яркие образы воспроизводились в российском контексте [24] Так, например, Мадонна (ранний стиль like a virgin (1984) – кожа, пирсинг, большие кресты, «химия», более поздний frozen (1998) – готика, нуар, вампиризм), с ее заигрыванием с гендером и эпатажными играми с особыми сексуализированными имиджами, нашла своих последователей, пусть и с опозданием, в лице Натальи Ветлицкой («Но только не говори мне», 1994) или, например, Лады Дэнс («Девочка ночь», 1993) и Ирины Салтыковой («Эти глазки…», 1994). Из-за достаточно низкого уровня материально-технической базы (музыкальная техника, видео- и аудиозапись) и исполнительской культуры музыка и тексты в российском варианте выглядят более попсовыми и простыми, что не мешает сверхпопулярности как исполнителей, так и песен в этом стиле.
. В конце 1990-х – начале 2000-х появляются отечественные рэперы, которые стараются адаптировать проблемы американского «черного рэпа», их аудиториями становятся поколения постсоветских школьников. Формирующееся в этом пространстве противостояние рэперов и металлистов было не столько музыкальным, сколько стилевым. Значение имели одежда, знание истории той или иной группы или направления, внешний вид. В стилевые разборки между рэперами и металлистами постоянно внедрялись панки, выступая на стороне то одной, то другой группы [Gololobov, Pilkihgton, Steinholt, 2014].
Читать дальше