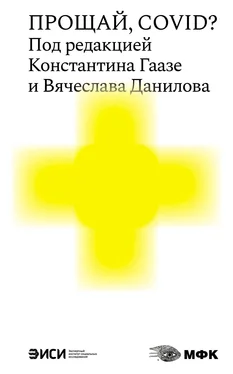«Государство» сегодня – это род, не вид, и это родовое понятие покрывает большое разнообразие реалий. Все говорят о шведском эксперименте, как если бы он один противостоял всем остальным странам. Это совершенно неверно. По сути, различия в государственном подходе (приоритеты, принятие и выполнение решений в условиях форс-мажора, последовательность и согласованность действий между разными структурами), в характере господствующих медиа, в степени доверия правительствам, в ментальности и – по совокупности – в реальном протекании эпидемии между странами огромны. Есть страны, как мы все знаем, где члены парламента противопоставили эпидемии ношение оберегов. Уже много писали о том, что низкое доверие к своему правительству становится опасной роскошью, которая стóит жизней. В силу сопротивления, которое вызывают у граждан даже очевидно разумные меры, непопулярные правительства становятся вредны для своих народов. Не удивительно, что началась волна исков не только отдельных лиц к медицинским учреждениям, но и гражданских обществ к своим правительствам: Италия, Франция, Южная Африка… Несомненно, последуют США. Сейчас, в середине июня 2020 года, невозможно представить себе такие иски в России или Китае, но кто знает, какие сюрпризы готовит нам будущее, и, может быть, совсем недалекое? Очевидно, что зреет желание рассматривать злоупотребление государственным ресурсом – затыкание рта журналистам и разоблачателям-whistleblower’ам, а также рисование нужных цифр – не как простые прихоти властей, а как опасные и губительные для граждан бесчинства.
При этом обвинение в адрес многих правительств, что они «не были готовы к эпидемии», мне не кажется вполне справедливым. Нельзя быть готовым ко всему, ко всем видам бед и катастроф. Даже эпидемиологи признаю́т (я встретил, правда, только одно эксплицитное признание), что не предвидели ничего такого; во всяком случае не наблюдается града похвальбы: я знал, я предсказывал. Конечно, не в счет довольно точные описания бедствия, которые тут же стали находить в научной фантастике. Такого рода «предвосхищающий плагиат» [12] Термин одного из отцов-основателей движения OuLiPo Франсуа Лё Лионэ.
имеет свою логику. Пьер Байар, воскресивший это «улипойное» понятие, исследовал в книге «„Титаник“ потерпит крушение» [13] Bayard Pierre. Le Titanic fera naufrage. Paris: Minuit, 2016.
тот хронопраксис, который в силу своей спирально-петлевой структуры рушит строгую «физическую» последовательность. Он делает это преимущественно по двум векторам: вектору влияния-инспирации (так Бен Ладен мог вдохновиться чтением американского фантастического романа о теракте, использующем как орудие очень крупный самолет) и вектору закона Мерфи (большое судно обязательно будет иметь недостаточное количество шлюпок и обязательно потерпит крушение). Более прозаически следует предвидеть, что при переживаемом уже не первый век в литературе, а затем в кино буме научной и социальной фантастики вероятность возникновения ситуаций, которые бы никем не были предвидены и описаны, близится к нулю.
Обвинение в том, что «правительства не были готовы к эпидемии», понятно и простительно в контексте той моральной паники, которая вынужденно становится не ответом на проблему, а ее частью. Общественное мнение как будто реагирует с перехлестом, мстительно компенсируя досаду за собственную неготовность, на которую оно, конечно, уж вполне имеет право. Для изучения общественного мнения такого рода социальные эксперименты в натуральную величину обладают колоссальной ценностью. Сами его флуктуации выступают неотъемлемой частью самого этого явления. Мнение общественное, несомненно, как-то связано с «экспертным мнением», но сложным и весьма нелинейным образом. Очевидно, что люди ведут себя – носят или не носят маски, сидят или не сидят дома, играют в игру или ищут, как бы ее нарушить… – под воздействием скорее общественного, чем «экспертного мнения», иначе говоря, под воздействием мнения среды. Стало наглядно ясным преобладание риторики, неформальной логики, логики спора. Никто никого не переубеждает, никакая информация сама по себе не несет аргументов: люди могут умирать, их имена и фотографии могут вывешиваться на общее рассмотрение – рядом этот факт будут категорически отрицать. Занимать «свою» позицию оказалось важнее не просто «истины» (с ней давно уже всё ясно), но «и самóй жизни». Люди готовы рисковать ею, подвергать ее неоправданной опасности, лишь бы настоять на «своей» позиции, на своем конатусе. Эту позицию было бы ошибочно описывать эпистемически – как перечень фактов или statements, которые признаёт или с которыми идентифицируется индивид. Многовековая философия, вероятно, сильно заблуждалась по поводу человека или грубо льстила ему, интеллектуализируя, «эпистемизируя» его, делая именно познание – бога, мира, себя – его целью и смыслом. Да нет, у человека есть дела поважней.
Читать дальше