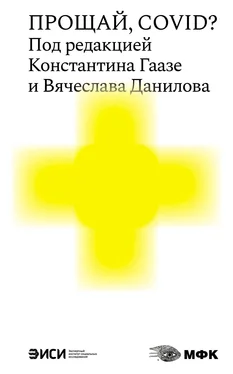Вирусы в этом смысле нисколько не уступают микробам, про которые мы уже знаем, что они важны не менее, чем ружья и сталь. Но, как и микробы, вирусы – не тот противник, с которым имеет смысл меряться фаллосами, бороться за свое им признание , говоря в терминологии «Феноменологии духа». Вирус прекрасно признал клетки нашего организма в качестве благоприятной среды своего собственного воспроизводства. Но «мы» можем иметь на эти клетки другие виды; наш организм, та целостность, которую мы называем «индивидом» или «человеком», нуждается в них в другом качестве. Ибо, какими бы алло-антропными или нег-антропными ни были факторы События, само оно случается с человеком, случается человеку. Без человека не было бы никакого «цунами», а было бы механическое взаимодействие тектонических структур, вызванное физическими явлениями и вызывающее в свою очередь другие, в частности, гидравлические явления. По определению пионеров антропологии катастроф, чтобы трактовать некий феномен как катастрофу, необходимо сочетание двух условий: потенциально разрушительного агента естественного или технологического порядка и уязвимой части населения [9] Oliver-Smith A . What is a Disaster: Anthropological Perspectives on a Persistent Question // Hoffmann S., Oliver-Smith A. (ed.). The Angry Earth. Disaster in Anthropological Perspective. London: Routledge, 1999. P. 18–34 (здесь: р. 28–29).
. Без человека – простая игра сил природы, в которую нелепо вносить трагизм, катастрофизм или событийность. Сочетание двух упомянутых условий еще не обрекает на катастрофу. Возможны разные способы адаптации человека к потенциально разрушительной стихии, сожительства с ней. В этом, собственно, и состоит и резюме постковидной экологии. Предположительно этиологию ковида возводят как раз к нарушениям правил, дистанции, мер предосторожности в сожительстве с природой, и в частности с некоторыми видами живых организмов. Оказалось, что проблематичен сам барьер, отделяющий нас от природы («природу без нас» – от «нас без природы», «без мира»). Мы спокойно пребывали в иллюзии, что когда нам нужно одно – эта граница на замке и мы хорошо защищены от природы, а когда нам хочется другого – мы можем черпать из природы то и сколько нам угодно.
Было бы наивно полагать, что эпидемия заставит дрогнуть экологический скептицизм (который, кстати, было бы интересно проверить на корреляцию с ковид-диссидентством). Сомнение, как известно, давно стало предметом сложной маркетинговой стратегии [10] Michaels D. Doubt is their product: how industry’s assault on science threatens your health. Oxford: Oxford UP, 2008.
. В споре с экоскептиком (в том числе и в себе ) очень соблазнительным представляется перспектива из будущего: когда всё устаканится, мы узнаем наконец, чтó это было. «Будущее покажет!» Иногда говорят: история покажет; но, конечно, в смысле: историки будущего покажут. Не будем-де забегать вперед и предпринимать лишние действия, пусть сначала «будущее покажет» нам, как надо (было!) действовать.
Одно можно сказать с достаточной определенностью: завтрашнее поколение будет считать такую логику нерациональной и безнравственной. Нет, мы сегодня своими действиями или своим бездействием сужаем будущее. Мы сегодня его делаем. Не оно нам что-то покажет, а мы ему покажем, каким быть. Завтрашнее поколение уже окажется в том будущем, какое ему задаст наше настоящее. Эти очевидные рассуждения в какой-то мере касаются любого исторического периода. Но именно в последние десятилетия короткое (историческое) время стало нагонять долгое (геологическое) время глобальных процессов.
Я только что говорил о «нас», о «наших» действиях-бездействиях. Инклюзивное первое лицо множественного числа, разумеется, требует комментария. Кто эти «мы», которые могут действовать (или бездействовать)? Пандемия дала не лишенную парадоксальности надежду на перемены. Страх может не только парализовать, но и мобилизовать, не только сеять панику, но и изобретать решения или выбирать из уже имеющихся. Ханс Йонас называл это «эвристикой страха» (Heuristik der Furcht) [11] Jonas H. Das Prinzip Verantwortung. Fr.a. M.: Suhrkamp, 1979. S. 64.
. Многие наблюдатели обеспокоены ужесточением мер контроля, которое государства ввели, «пользуясь» эпидемией. Явление это, само по себе тревожное и проблематичное, обнаружило, однако, немаловажный факт: государство, которое, казалось бы, готово было сойти с исторической арены, уступив позиции межнациональным корпорациям, наднациональным союзам и другим non-state actors, отнюдь не сказало своего последнего слова. Оно оказалось способным в считанные дни затормозить или вовсе остановить целые отрасли производственной деятельности, изменить целые области повседневности, принять решения, которым вынуждены были подчиниться экономические агенты, сопоставимые по мощности, по финансовому ресурсу с самим государством. Значит, аргумент от бессилия перед могущественными акторами не столь неотразим и незыблем? Не так давно Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, англ. IPCC) рекомендовала сократить выбросы парниковых газов за десять лет больше чем наполовину. Тогда, до пандемии, эти рекомендации выглядели даже не благим пожеланием, а чем-то похуже – самодовольной кабинетной маниловщиной, почти издевательством. Но в ходе пандемии оказалось, что государства всё еще могут декретировать очень многое. А значит, мнимая ссылка на «неизбежность», на всесилие неолиберальной стихии не может служить моральным алиби.
Читать дальше