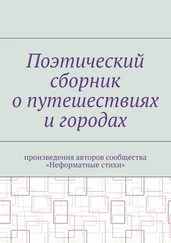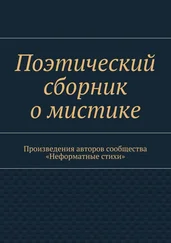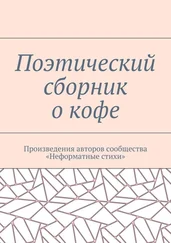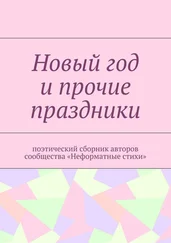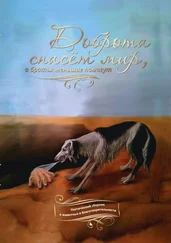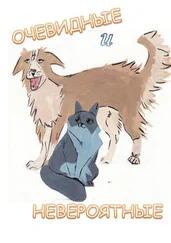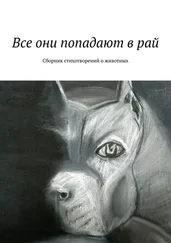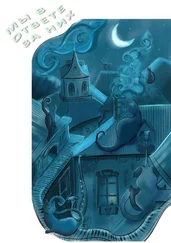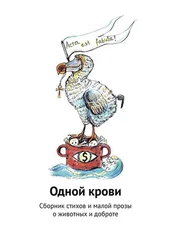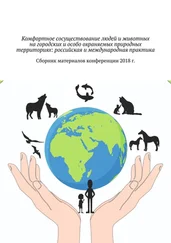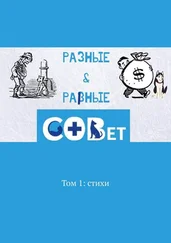При рассмотрении корпуса русского языка, в частности, к этому умозаключению могут привести такие широко употребимые поговорки, как, например, «делить шкуру неубитого медведя», «погнаться за двумя зайцами/убить двух зайцев», «без труда не выловить и рыбку из пруда». Названные примеры отсылают к использованию животного мира в качестве ресурсов (охота, рыбная ловля). Другая сфера применения животных человеком на протяжении многих веков – сельское хозяйство – также стала источником ряда идиоматических выражений: «цыплят по осени считают», «пользы как от козла молока» и т. п. В данных лексических оборотах представляется естественной семантика эксплуататорского отношения к животным, так как сами области жизнедеятельности общества, в рамках которых они сформировались, строятся не на принципах гуманности. Вместе с тем, русский язык изобилует похожими по смысловой этической нагрузке идиомами с упоминанием собак, хотя за этим животным на протяжении уже достаточно длительного времени закреплён статус «друга человека» и питомца: «как собак нерезаных», « (в этом деле) собаку съел», «вот где собака зарыта».
Эквиваленты многих из перечисленных фразеологизмов присутствуют и в других языках; к тому же иностранные языки имеют собственные поговорки с номинациями животных, которые не сохраняются при переводе на русский, но при их лексико-семантическом анализе в языке оригинала также вызывают вопросы об этичности и гуманности с точки зрения современных подходов к обращению с представителями фауны. Одной из ллюстраций здесь может служить английская поговорка beat a dead horse, имеющая значение «напрасно стараться, делать что-либо тщетно», но в дословном переводе представляющая собой словосочетание «бить мёртвую лошадь».
С недавних пор зоозащитниками поднимается вопрос о целесообразности вывести из речевого употребления фразеологизмы, противоречащие нормам гуманности. С такой инициативой несколько лет назад выступила американская организация «Люди за этичное отношение к животным» (англ. People for the Ethical Treatment of Animals, PETA), предложив разработанные ей «гуманные» субституты для перечня поговорок, отрицающих, по её мнению, ценность животных как существ, заслуживающих лучшего обращения со стороны людей. «Подобно тому, как стало неприемлемым использование в речи слов, дискриминирующих людей по расовому признаку, сексуальной ориентации или недееспособности, фразы, которые преподносят жестокость по отношению к животным как обыденность, должны исчезнуть, по мере того как люди начнут признавать за животными ценность, которую те заслуживают» 1 1 Перевод автора. Оригинальный английский текст: Just as it became unacceptable to use racist, homophobic, or ableist language, phrases that trivialize cruelty to animals will vanish as more people begin to appreciate animals for who they are .
, – сказано в аккаунте организации в Твиттере [3].
Тем не менее, рекомендация PETA не повлекла за собой императивных актов со стороны каких-либо инстанций, уполномоченных регулировать языковые нормы в США или иных государствах, и тем более не повлияла на речевые обычаи. И, несмотря на тесную связь языка и мышления, о которой сказано в начале данной статьи, это не свидетельствует о неготовности общества улучшать своё обращение с животными.
Во-первых, язык, являясь неотъемлемой частью цивилизации, развивается вместе с ней, что позволяет учёным рассматривать его как некое подобие живого организма. И этим объясняется то обстоятельство, что любой естественный язык изменяется постепенно, с течением десятилетий, и исключительно в силу влияющих на него социокультурных, этнических и демографических факторов, но не на основании исходящего от некого инициатора распоряжения. Если для официально-делового, научного и, в крайнем случае, публицистического стиля существует возможность принятия и искусственного внедрения новых лексических и синтаксических стандартов, то для разговорной речи подобное немыслимо.
Впрочем, те модификации, которых пыталась добиться PETA, происходят сами – пусть и медленнее, по обозначенным выше причинам, чем желала бы организация. По мере «отмирания» тех или иных социальных явлений и трансформации нашего мироуклада, для каждого нового поколения носителей языка определённый пласт лексики, составлявшей активный словарь для их родителей и более ранних предшественников, отходит к категории историзмов. Фразеологические единицы, теряя семантическую мотивированность, зачастую выходят из повседневного употребления. Так, при проведении уроков со школьниками в рамках проекта «Зоолекторий» в 2020—2021 гг., представители АНО «СОВет», разбирая тему упоминания животных в литературе и фразеологии, отмечали, что современным детям незнакома поговорка «цыплят по осени считают». Её происхождение и значение учащиеся узнавали непосредственно на занятии, и, вероятнее всего, даже после этого она не вошла в их речь как нечто, с чем им не доводится сталкиваться регулярно в окружающем мире.
Читать дальше