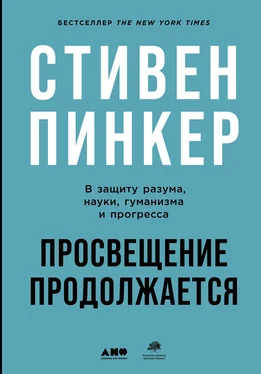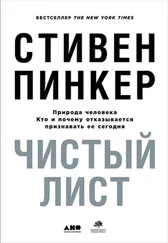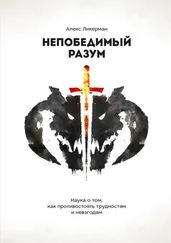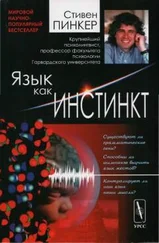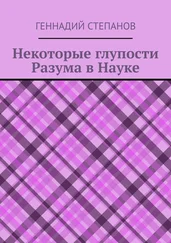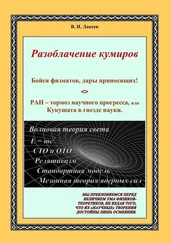~
Тетлок не снабдил свой экстравагантный прогноз точным значением вероятности и назначил ему безопасно далекий срок. Конечно, опрометчиво было бы ставить на улучшение качества политической дискуссии в тот пятилетний период, для которого только и оправданы прогнозы. Сегодня разуму в сфере общественной жизни противостоит не столько невежество, математическая неграмотность или когнитивные искажения, сколько политизация, а она, похоже, только усиливается.
В сфере политики как таковой американское общество становится все более поляризованным [1088] Усиление политической поляризации: Pew Research Center 2014.
. Воззрения большинства граждан настолько неглубоки и безграмотны, что не вписываются в какую-либо целостную идеологию, но – и это сомнительный прогресс – доля непоколебимо либеральных и непоколебимо консервативных американцев удвоилась с 1994 до 2014 года и составляет теперь не 10 %, а 21 %. Поляризации способствует и растущая сегрегация общества по политическим взглядам: в последние двадцать лет и либералы, и консерваторы все чаще признают, что почти все их близкие друзья разделяют их политические убеждения.
Расходятся все дальше и политические партии. Согласно исследованию, проведенному Исследовательским центром Пью, в 1994 году около трети демократов были консервативнее среднего республиканца, и наоборот. В 2014-м этот показатель был близок к одной двадцатой . Хотя вплоть до 2004 года весь политический спектр в целом смещался влево, с тех пор две партии двигались в противоположных направлениях по всем основным вопросам, кроме прав геев, включая государственное регулирование, социальные расходы, иммиграцию, охрану окружающей среды и применение военной силы. Что особенно пугающе, стороны все сильнее недолюбливают друг друга. В 2014 году 38 % демократов придерживались «очень недоброжелательных» взглядов на Республиканскую партию (в 1994 году таких было только 16 %), а более четверти считали ее «угрозой благополучию страны». Республиканцы относятся к демократам еще хуже: 43 % отзывались о Демократической партии неблагоприятно, а больше трети считали ее угрозой. Лидеры с обеих сторон тоже все чаще отказываются идти на компромиссы.
К счастью, большинство американцев придерживаются более умеренных взглядов, и доля их за сорок лет не изменилась [1089] Данные Всеобщего социологического обследования, http://gss.norc.org ; Abrams 2016.
. К несчастью, именно радикалы активнее голосуют, жертвуют деньги и оказывают давление на своих представителей. И у нас, мягко говоря, нет особых оснований считать, что с 2014 года что-то изменилось к лучшему.
Университеты, по идее, должны быть ареной, свободной от политических предубеждений, местом, где очищенная от предрассудков мысль исследует устройство нашего мира. Но именно тогда, когда потребность в непредвзятом обсуждении острее всего, представители академических кругов тоже политизировались, причем не поляризовались, но все разом сдвинулись влево. Высшая школа всегда была либеральнее населения в целом, но сейчас пропасть между ними становится все шире. В 1990 году 42 % университетских преподавателей относили себя к крайне левым или либералам (что на одиннадцать процентных пунктов больше, чем среди американцев в целом), 40 % придерживались умеренных взглядов и 18 % называли себя крайне правыми или консерваторами; таким образом, соотношение левых и правых среди профессуры составляло 2,3 к 1. В 2014 году крайне левых или либералов было уже 60 % (на тридцать процентных пунктов больше, чем в целом по стране), умеренных – 28 % и консерваторов – 12 %: перевес левых в соотношении 5 к 1 [1090] Abrams 2016.
. Эти цифры варьируются в зависимости от дисциплины: на кафедрах бизнеса, компьютерных, инженерных и медицинских наук левых и правых поровну. В гуманитарных науках, без сомнения, преобладают левые: доля консерваторов не превышает 10 %, и одни только марксисты превосходят их в соотношении 2 к 1 [1091] Политические взгляды профессуры: Eagan et al. 2014; Gross & Simmons 2014; E. Schwitzgebel, “Political Affiliations of American Philosophers, Political Scientists, and Other Academics,” Splintered Mind, http://schwitzsplinters.blogspot.hk/2008/06/political-affiliations-of-american.html . See also N. Kristof, “A Confession of Liberal Intolerance,” New York Times, May 7, 2016.
. Преподаватели физики и биологии держатся где-то посередине: там мало радикалов и почти нет марксистов, но тем не менее число либералов с большим отрывом превосходит число консерваторов.
Либеральный уклон научного мира (а также журналистики, аналитики и интеллектуальной жизни в целом) в известной мере естественен [1092] Либеральный уклон журналистики: в 2013 соотношение демократов и республиканцев среди американских журналистов было 4 к 1, хотя большая часть относила себя к независимым (50,2 %) или сообщала о других взглядах (14,6 %); Willnat & Weaver 2014, p. 11. Недавний контент-анализ предполагает, что газеты скорее склоняются влево, как и их читатели; Gentzkow & Shapiro 2010.
. Интеллектуальный поиск не может не посягать на сложившийся порядок вещей, который никогда не бывает безупречным. Кроме того, главный продукт интеллектуалов – выраженные в текстах умозаключения – ближе к целенаправленным политическим мерам, которые скорее ассоциируются с либерализмом, чем к недифференцированными формами социальной организации вроде рынков и традиционных норм поведения, за которые обычно выступают консерваторы [1093] Общественные силы, близкие либералам и консерваторам: Sowell 1987.
. Вообще, умеренный либеральный уклон даже желателен. Интеллектуалы-либералы шли в авангарде многих из тех прогрессивных тенденций, которые со временем принял почти каждый: демократии, социального обеспечения, веротерпимости, отмены рабства и пыток, сокращения числа войн, расширения гражданских прав и прав человека [1094] Интеллектуалы-либералы на переднем крае прогресса: Grayling 2007; Hunt 2007.
. Во многом мы (почти) все сейчас либералы [1095] Все мы либералы: Courtwright 2010; Nash 2009; Welzel 2013.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу