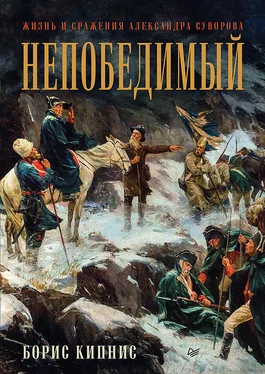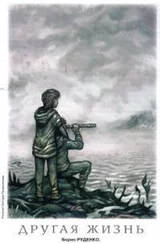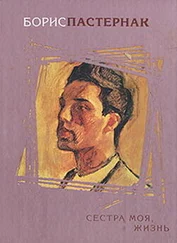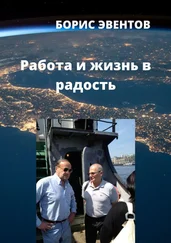«Ох, братец, а колено, а локоть. Простите, сам не пишу, хвор».
Суворов получил тяжелую контузию в грудь и ожоги на лице. Потемкин 20 августа послал ему теплое, соболезнующее письмо, в котором были и такие строки:
«Мой друг сердешный, ты своей персоной больше десяти тысяч. Я тебя так почитаю и, ей-ей, говорю чистосердечно. От злых же Бог избавляет, он мне был всегда помощник…» [758] Русская старина. – СПб., 1875. – Май. – С. 39.
Мало этого, он прислал для ухода за раненым генералом сиделку госпожу Давье [759] Сборник военно-исторических материалов. – СПб., 1891–1894. – Вып. 4. – С. 166.
.
Всю осень провел Александр Васильевич на Кинбурнской косе. Здоровье восстанавливалось медленно, еще 7 октября в письме к своему патрону он жаловался:
«Я слаб, кафтан шею портит. Лучше здесь еще выкрепиться…» [760] Там же. С. 172.
Он так и остался на этой песчаной полосе, зажатой между морем и лиманом, внимательно следя за турецким флотом, прорывающим блокаду Очакова, и донося обо всем, что происходит, Потемкину. И наконец дождался: 6 декабря, на Святого Николая, крепость очаковская была взята штурмом российскими победоносными войсками. Он наблюдал за этим важнейшим батальным действием со стороны. Впервые в его богатейшей военной практике подобное происходило на его глазах, но без его участия. Зная характер полководца, можно представить, как он кусал губы. Напрасно: человеку не дано знать, что ждет впереди. Суворова ждал Измаил.
Но радость полководца была непритворна: в тот же день шлет он короткое письмо в русский лагерь:
«С завоеванием Очакова спешу Вашу Светлость нижайше поздравить.
Боже даруй Вам вящие лавры. Остаюсь с глубочайшим почтением…» [761] Там же. С. 178.
Через пять дней новое, снова короткое и очень простодушное послание:
«Хоть гневайтесь – не было попа; на послезавтра буду весь день молебны петь и весь день стрелять. Не могу умерить моей радости…» [762] Там же. С. 179.
Он первым точно определил историческое значение взятия турецкой твердыни [763] Там же.
. До самого Рождества пробыл полководец в Кинбурне, пока не получил от Потемкина приглашение ехать с ним вместе в Санкт-Петербург. Наш герой тут же, 23 декабря, откликнулся, снова двумя строками:
«Как мне, батюшка, с Вами не ехать! Здесь сдам – и ночью в Херсон. Вашей Светлости, Милостивого Государя, нижайший слуга Александр Суворов» [764] Там же. – С. 166.
.
Все, очаковская страница его жизни была перевернута рукой судьбы.
Они вместе прибыли на берега скованной льдом Невы 4 февраля 1789 г., а уже 11 февраля присутствовали в Зимнем дворце на торжестве, когда государыня из дворцового фонарика смотрела на две сотни турецких знамен, захваченных при штурме, которые везли мимо окон Зимнего в Петропавловскую крепость. После этого за обеденный стол императрицы было приглашено 87 персон, были среди них и Потемкин с Суворовым. Почти всю весну наш герой провел в столице, навещал любимую дочь в Смольном, очевидно, пользовался услугами врачей. Наконец, 15 апреля в императорской резиденции, за окнами которой освободившаяся от ледяной пелены Нева несла свои весенние воды в Финский залив, была торжественная церемония награждения очаковских героев. Первым был награжден, конечно же, сам фельдмаршал: из рук Екатерины II получил он орден Св. великомученика и победоносца Георгия 1-й степени. Вторым государыня награждала генерал-аншефа Александра Суворова. Потемкин в представлении к награждению так описал его заслуги:
«Командовал при Кинбурне и под Очаковом, во время же поражения флота участвовал немало действием артиллерии со своей стороны…» [765] Русская старина. – СПб., 1876. – Октябрь. – С. 23.
Императрица протянула ему необычайную драгоценную награду: бриллиантовое перо с буквой «К» (Кинбурн) для ношения на треуголке. На миниатюре английского художника Ф. Бэшона, выполненной в покоренной Варшаве в 1795 г., полководец правой рукою сжимает фельдмаршальский жезл, а в левой держит свою форменную треугольную шляпу, украшенную кинбурнской наградой. Награждение ценным предметом объясняется просто: у полководца были к этому времени все высшие русские ордена. Оставался лишь Св. Великомученика и Победоносца Георгия 1-й степени, но эта награда предназначалась Потемкину, а значит, Суворова можно было наградить лишь драгоценным украшением, видным издалека знаком отличия, что и было сделано.
В столице оставался он до 25 апреля. После же:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу