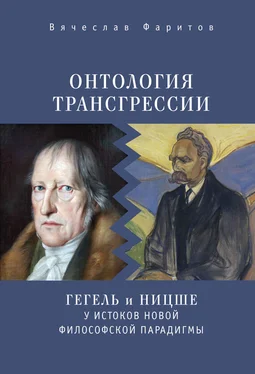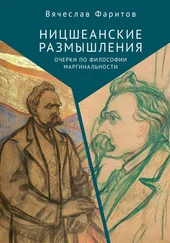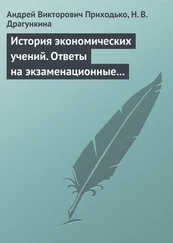«Зачем так долго жил ты в болоте, что сам должен был сделаться лягушкой и жабою?
Не течет ли теперь у тебя самого в жилах гнилая, пенистая болотная кровь, что научился ты так квакать и поносить?
Почему не ушел ты в лес? Или не пахал землю? Разве море не полно зелеными островами?
Я презираю твое презрение; и, если предостерегал ты меня, – почему не предостерег ты самого себя?
Из одной только любви должно воспарить презрение мое и предостерегающая птица моя – но не из болота! —
Тебя называют моей обезьяной, ты, бесноватый шут; но я называю тебя своей хрюкающей свиньей, – хрюканьем портишь ты мне мою хвалу шутовства.
Что же заставило тебя хрюкать? Никто достаточно не льстил тебе, поэтому и сел ты вблизи этой грязи, чтобы иметь основание вдоволь хрюкать, —
– чтобы иметь много поводов для мести! Ибо месть, ты, тщеславный шут, и есть вся твоя пена, я разгадал тебя!
Твое шутовское слово вредит мне даже там, где ты прав! И если бы слово Заратустры было даже сто раз право, – ты бы все-таки, моим словом, – вредил мне!»
Так говорил Заратустра; потом он посмотрел на большой город, вздохнул и долго молчал. Наконец он заговорил так:
– Мне противен этот большой город, не только этот шут. И здесь и там нечего улучшать, нечего ухудшать!
Горе этому большому городу! – Мне хотелось бы увидеть огненный столб, в котором сгорит он!
Ибо такие огненные столбы должны предшествовать великому полдню. Но всему свое время и своя собственная судьба. -
И такое поучение даю я тебе, шут, на прощание: где нельзя уже любить, там нужно – пройти мимо! —
Так говорил Заратустра и прошел мимо шута и большого города. [627]
Ницше принял то, что отказался принять Шпенглер: трансгрессивное существование вне какого-либо единства, без родины, вне культурно-исторического контекста. Но не лучше ли в данной ситуации как раз не иметь места среди своего поколения, не иметь истории и культуры, не существовать внутри каких-либо метадискурсивных образований? Это означает полностью отказаться от бытия в качестве культурно-исторической самости, стать для своих современников (своего поколения) призраком или, еще хуже, – глупцом, шарлатаном или педантом. Ницше и ощущал себя таким призраком, несовременным и несвоевременным, не имеющим духовной общности ни с кем из окружавших его в настоящем людей. Он даже готов был назвать себя шутом и поэтом: «Nur Narr, nur Dichter». Скоморох и поэт – две наиболее характерные формы трансгрессивного бытия, позволяющие ускользать от самости и идентичности, не быть тем, кто ты есть. Но есть и еще одно значимое отличие: там, где Шпенглер видит закат и определяет роль философа как могильщика испускающей дух культуры, Ницше ожидает великий полдень. Закат Европы – это закат классической метафизики и порядка трансценденции как основания конституирования культурно-исторической самости. Полдень – это отнюдь не переход к новому порядку (который, правда, наступит в той или иной форме),
но, собственно, сам момент перехода, «мгновение самой короткой тени», когда иллюзия трансценденции становится явной и существование предстает как вечно возвращающаяся игра света и тени, освобожденная от бремени идеи, культуры и истории, от Платона и Гегеля. И от Шпенглера. Это и есть трансгрессивный режим бытия, трансгрессия культурно-исторического контекста бытия самости. И это также философия – но не из горизонта трансценденции, а из горизонта трансгрессии. Смысл высвобождается из детерминированного метадискурсом магистрального направления и начинает разворачиваться сразу в нескольких разнонаправленных перспективах, не устанавливая никакого иерархического порядка. Смысл начинает играть.
4. История доктора Мартина Хайдеггера [628]
Попал он в дурную компанию, кинул святое писание за дверь и под лавку и стал вести безбожную и нечестивую жизнь.
Народная книга. История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике
Феномен временности (темпоральности) является ключевым моментом, узловым пунктом хайдеггеровской онтологии. Именно здесь лежит точка соприкосновения философии Хайдеггера с учением Ницше. Но здесь же заложен и момент глубочайшего расхождения между двумя немецкими мыслителями. Для Ницше время как вечное возвращение есть утверждение становления: «Все идет, все возвращается, вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает, вечно бежит год бытия. Все погибает, все вновь складывается; вечно строится тот же дом бытия. Все разлучается, все снова друг друга приветствует; вечно остается верным себе кольцо бытия». [629](«Alles bricht, Alles wird neu gefügt; ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. Alles scheidet, Alles grüsst sich wieder; ewig bleibt sich treu der Ring des Seins»). [630]Важно с самого начала не ошибиться, что понимает здесь Ницше под «бытием»: не присутствие, не сущее, но – становление, в котором бытие и сущее есть лишь эффекты этого становления. Для Хайдеггера акценты иные: временность есть горизонт бытия именно как присутствия. Временность есть тот способ, каким бытие (Sein) становится доступно («открыто») пониманию в нашем существовании (Dasein). Вместе с бытием в философии Хайдеггера сохраняет (или вновь приобретает) свою значимость базовый концепт классической метафизики – Истина. Истина есть просвет бытия. Тем самым Хайдеггер возрождает дискурс о бытии, начало которого было положено Парменидом. Задача Ницше состоит как раз в обратном: в деструкции этого дискурса – того дискурса, который задавал направление философской мысли на тысячелетия. Отказ от бытия означает и отказ от истины: «На Севере – шепну стыдливо – // Любил каргу я, дрянь на диво, // Карга та «истиной» звалась…». [631](«Im Norden – ich gestehs mit Zaudern – // Liebt ich ein Weibchen, alt zum Schaudern: // «Die Wahrheit» hieß dies alte Weib…»). [632]Взамен утверждается новая перспектива, перспектива игры: «У птиц уроки тщился брать я, // И вот теперь созрел я, братья, // Для новой жизни, для игры…». [633](««Im Fliegen lernt ich, was mich äffte, – // Schon fühl ich Muth und Blut und Säfte // Zu neuem Leben, neuem Spiel…»). [634]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу