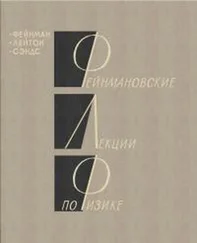Гамов работал с Ральфом Алфером и опубликовал свою гипотезу в 1948 году. Играя с греческим алфавитом, с первыми тремя буквами, альфа, бета и гамма, он поместил Бете между собой и Алфером, пусть даже Бете непосредственно не участвовал в работе. После этого с Алфером, Бете и Гамовым в заголовке теория стала называться «альфа-бета-гамма теорией».
Три астронома, Фред Хойл, Герман Бонди и Томас Голд, составляли оппозиционный лагерь. Хойл именовал модель Гамова «Большим взрывом» и насмехался, что вся материя и энергия в ней появились в один миг из чистого ничего. Его собственная гипотеза называлась «стационарной моделью», и в ней постулировалось постепенное возникновение новой материи в крошечных количествах на протяжении долгих эонов. Вселенная расширяется, и девственная материя медленно сгущается в зарождающиеся галактики, которые постепенно заполняют пространство между старыми.
Следовательно, космос выглядит примерно одинаковым всегда.
И Большой взрыв, и стационарная модель подчиняются космологическому принципу, который определяет, что пространство и распространенная в нем материя однородны по всем направлениям. Иными словами, никакая часть вселенной в принципе не отличается от любой другой.
В результате они описываются в общей теории относительности простыми решениями уравнений Эйнштейна, которые одновременно изотропны (идентичны по всем направлениям) и гомогенны (сходны везде).
Однако лишь некоторые решения отвечают таким требованиям.
Как подчеркивали Бонди и Голд, стационарная модель соответствует тому, что они называли «совершенным космологическим принципом». Более строгий, он требовал, чтобы вселенная как целое выглядела примерно одинаково во времени, как и в пространстве. Поскольку новые галактики возникают везде, где существуют провалы между старыми, мироздание постоянно получает «уколы» космического коллагена и стареет так же мало, как Дориан Грей.
Подобно простому космологическому принципу, совершенный космологический принцип ограничивает число возможных решений уравнений Эйнштейна.
Поскольку хватало небольшой ее части для понимания известных космологических решений, и имелось лишь несколько приложений в других областях, общая теория относительности не имела шансов привлечь физиков в начале пятидесятых. Многие смотрели на нее как на «песочницу для математиков» 81.
Тем не менее свежий взгляд, представленный в статье Оппенгеймера от 1939 года, и собственные мысли по поводу фундаментальных ингредиентов природы воодушевили Уилера на то, чтобы пойти против тенденции, оживить старую тему.
Края общей теории относительности
В начале 1952 года, когда проект «Маттерхорн» был в полном разгаре, мысли Уилера редко обращались к фундаментальным основам вселенной. Обозревая совместную с Нильсом Бором работу в ядерной отрасли, он наверняка возвращался к 1 сентября 1939 года, когда вышла их известная статья в Physical Review.
В том же самом выпуске была и другая статья, написанная Оппенгеймером и его студентом Хартландом Снайдером, озаглавленная «О безграничном гравитационном сжатии» и посвященная возможному сценарию последних стадий жизни массивных звезд.
Это выглядело странно, но Оппенгеймер и Снайдер предсказали, что при определенных обстоятельствах тяжелая звезда, исчерпавшая запасы ядерного топлива и лишившаяся способности выбросить большую часть своего вещества, неограниченно сжимается.
В пределах некоторого периода такие звездные гиганты превращались в бесконечно плотные объекты, именуемые сингулярностями. Их гравитационное притяжение становилось таким сильным, что даже свет, не говоря уже о других видах излучения, не мог покинуть маленькую сферическую область вокруг их центральной точки. Следовательно, никто не имел шансов заглянуть внутрь и зафиксировать, что там происходит.
Много позже Уилер назвал такие объекты «черными дырами».
Но тогда, в 1939-м, он всецело не поверил выводам Оппенгеймера и Снайдера. Джон подумал, что некий механизм, возможно, квантовый процесс или какая-то разновидность сглаживания задержит сжатие до того, как оно дойдет до сингулярности.
Сингулярности выглядели ложкой дегтя и в других теориях тоже, они плохо сочетались, например, и с понятием собственной энергии электрона. Возможно, решение вопроса с гравитацией позволит открыть нечто фундаментальное по поводу того, как природа избегает сингулярностей. Чтобы найти разумную альтернативу, было необходимо изучить общую теорию относительности так тщательно, как только возможно.
Читать дальше
![Пол Халперн Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres] обложка книги](/books/414310/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman-cover.webp)

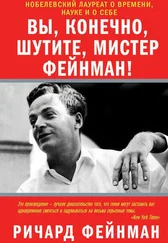
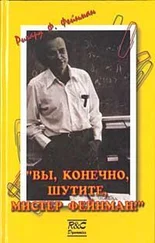
![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/398001/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov-thumb.webp)
![Диана Джонс - Дом за порогом. Время призраков [litres]](/books/412396/diana-dzhons-dom-za-porogom-vremya-prizrakov-litre-thumb.webp)