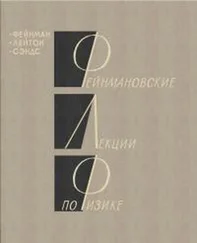Квантовая теория сильного взаимодействия стала известна под именем квантовой хромодинамики (КХД).
КХД не стояла на месте, точно так же развивалась и электрослабая теория, комбинация квантовой электродинамики и слабого взаимодействия. Поэтому теоретики в шестидесятых и семидесятых мечтали о перспективе всеобщей унификации: объединить три из четырех фундаментальных взаимодействий в единую квантовую теорию, куда будут входить кварки, фотоны, лептоны, глюоны и переносчики слабого взаимодействия. Ученые предполагали, что при достаточно высокой температуре, например в пылающей топке Большого взрыва, все три взаимодействия имели одну силу, радиус действия и прочие свойства. Только когда вселенная немного остыла, эти силы начали различаться.
Самые смелые надеялись, что в общую схему удастся добавить и четвертую силу, гравитацию. Но любые попытки квантовать ее приводили к бесконечным величинам, а дисбаланс в силе между этим взаимодействием и тремя остальными выглядел слишком большим, некоторые предлагали сначала унифицировать первые три. Но даже попытки скомбинировать сильное и электрослабое взаимодействия в Теории Великого объединения успехом не увенчались.
Любопытно, что значимое различие между сильным и слабым взаимодействиями имело отношение к инвариантности заряд-пространство. Первое сохраняло симметрию данного типа, второе ее нарушало, а если учесть соединение с временной симметрией, казалось странным, что сильные процессы выглядели одинаковыми при движении вперед и назад во времени, в то время как слабый распад мог в некоторых случаях показать разницу.
Не могло ли время наконец стать обратимым, особенно если все силы в конечном итоге едины при высоких энергиях?
Открытия в мире частиц, такие как измерения Кронина и Фитча в отношении каонов, обнаруживали странные факты о времени в очень маленьком масштабе, но и полученные космологами результаты порой выглядели не менее чудными. Данные об РКИ Пензиаса и Уилсона продемонстрировали значительную однородность в температуре вне зависимости от того, куда они направляли свои детекторы.
Космическое микроволновое излучение высвободилось, когда формировались атомы, около 380 тысяч лет после Большого взрыва. Термодинамика говорит нам, что температуры выравниваются, если характеризуемые ими области находятся в термальном контакте, то есть достаточно близко, чтобы обмениваться фотонами. Но к тому времени космос развивался уже долго, и отдельные его части далеко отстояли друг от друга. Учитывая то, что они практически не имели шансов выравниваться по температуре, почему реликтовое излучение из той эпохи выглядит столь невероятно однородным? Этот парадокс именуется «проблемой горизонта».
Астрономы знали, что данные Пензиаса и Уилсона не точны, что более совершенные инструменты могли бы обнаружить расхождения в температуре РКИ, обозначить более плотные регионы, ставшие семенами, из которых выросла структура. Подобные маленькие неоднородности могли увеличиться с течением времени под влиянием гравитационных сил и сформировать звезды и галактики.
Космические зонды, такие как Cosmic Background Explorer, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe и Planck Satellite в конечном итоге подтвердили эти подозрения, открыв, что РКИ характеризуется крошечными флуктуациями. Тем не менее такие маленькие отклонения вовсе не убрали проблему горизонта, поскольку температурная однородность в большом масштабе никуда не делась.
Уилер надеялся решить вопрос с помощью квантового толкования геометродинамики. Как он указывал на «Природе времени», вероятно, законченная теория квантовой гравитации сможет объяснить, почему энтропия в первоначальном космосе была столь низкой. Возможно, достаточно низкая энтропия соотносилась с однородным ранним космосом – примерно так же как низкая энтропия (высокий уровень порядка) промерзшего до дна пруда делает его поверхность гладкой.
Тем временем Мизнер предложил свое объяснение, названное «вселенной Миксмастера». Он основал свою модель, представленную в 1969-м, на анизотропном решении уравнений Эйнштейна, которое колеблется в различных направлениях вместо равномерного расширения. Его размышления частично подстегнула гипотеза британского космолога Стивена Хокинга о том, что вселенная могла начаться в виде сингулярности (состояния бесконечной плотности), и обогатили результаты русских физиков Владимира Белинского, Исаака Халатникова и Евгения Лифшица, показавших, как космос мог появиться из такой сингулярности в хаотическом состоянии. Уилер предупредил Мизнера о находках русских, когда тот сам глубоко погряз в собственных расчетах.
Читать дальше
![Пол Халперн Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres] обложка книги](/books/414310/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman-cover.webp)

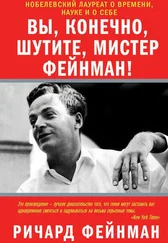
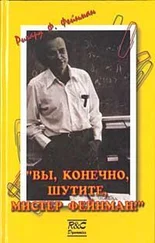
![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/398001/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov-thumb.webp)
![Диана Джонс - Дом за порогом. Время призраков [litres]](/books/412396/diana-dzhons-dom-za-porogom-vremya-prizrakov-litre-thumb.webp)