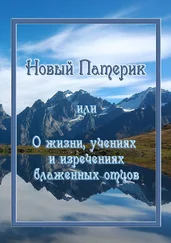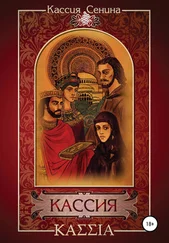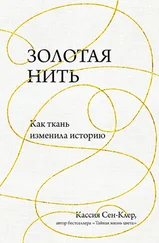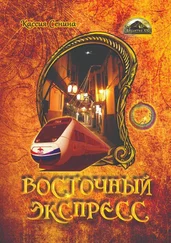Для синтеза ультрамарина смешивают белую глину, соду, древесный уголь, кварц и серу. Полученную смесь нагревают, получая в результате зеленую стекловидную субстанцию. Ее измельчают, промывают и нагревают снова, на сей раз получая порошок ярко-синего цвета.
Французский ультрамарин был на несколько порядков дешевле натурального. В некоторых случаях разница доходила до 2500 раз за тот же объем [456]. В начале 1830-х годов унция природного ультрамарина стоила 8 гиней, а фунт французского – от 1 до 25 шиллингов, но к 70-м годам XIX века французский ультрамарин стал стандартом. Встретили его появление, однако, с изрядным недоверием. Художники жаловались, что он был слишком одномерен, однообразен и скучен. Частицы в его составе имели единый размер и отражали свет одинаково, что лишало искусственный ультрамарин глубины, вариативности и визуальной привлекательности, присущих натуральному.
Послевоенный французский художник Ив Кляйн был с этим согласен. В 1960 году он запатентовал формулу международного синего цвета Кляйна, создав на его основе серию работ, ставшую его «визитной карточкой»: серию глянцевых текстурных полотен в своем «международном цвете», названную в его честь «серией IKB». Эти обманчиво простые монохромы Кляйн позднее гордо называл своей «чистой идеей». Он любил интенсивность необработанного порошкового ультрамарина, но был разочарован безликостью и тусклостью краски, которая из него получалась. В сотрудничестве с химиком он потратил год на то, чтобы разработать специальный смоляной состав. Смешивая его с искусственным ультрамарином, он получал IKB, близкий к чистоте и великолепию оригинала.

29 мая 1945 года, вскоре после освобождение Нидерландов, Хан ван Мегерен, художник и галерист, был арестован за сотрудничество с нацистами. Он не только подозрительно нажился за время оккупации Нидерландов, он еще и продал картину «Христос и судьи» (другое название – «Христос и прелюбодейка»), раннюю работу Вермеера, Герману Герингу. За коллаборационизм ван Мегерену грозила виселица [457].
Ван Мегерен не только решительно отрицал обвинения, но и выступил с неожиданным контрдоводом. Этот «Вермеер», заявил он, вовсе не Вермеер: эту картину написал сам ван Мегерен. В худшем случае его можно обвинить в подделке произведений искусства, но, поскольку он провел самого рейхсмаршала, разве не стал он от этого национальным героем Нидерландов? Некоторые из полотен, которые, по его словам, он создал за свою карьеру фальсификатора, – еще несколько «Вермееров», парочка «Питеров де Хохов» и т. д. – оказались в музеях и вызвали восторги критиков, опознавших в них давно утраченные и заново обретенные шедевры. Ван Мегерен утверждал, что заработал на подделках 8 млн гульденов (около 33 млн долларов сегодня). Когда уважаемые директора музеев и критики отказались верить ему, ван Мегерен оказался в любопытном положении – он должен был убедить окружающих в том, что виновен в мошенничестве.
Он объяснял суду, что специализировался на Вермеере из-за того, что в наследии этого художника имелся огромный пробел – большинство его известных полотен относились к позднему периоду, когда тот был уже глубоким стариком, а его стиль очень сильно отличался от «молодого Вермеера». Зная, что историки искусств отчаянно ищут подтверждение теории о том, что на стиль Вермеера в молодости огромное влияние оказала итальянская живопись, для одной из своих первых (и одной из лучших) подделок – «Христос и паломники в Эммаусе» – ван Мегерен избрал композицию Караваджо. Кроме того, он тщательно подходил к техническим деталям. Вместо традиционного льняного масла он в качестве растворителя использовал бакелит (фенолформальдегидную смолу), затвердевающий при нагревании.
Это позволяло ему обходить стандартные рентгеновские тесты и проверки растворителями. Он писал на старых холстах, сохранивших аутентичные кракелюры (сеть тонких трещин, покрывающих поверхность картины) [458], и использовал только те краски, которые существовали в XVII веке [459], – во всех случаях, кроме одного. Промашку он допустил с оттенком, который, как выяснилось при более тщательном исследовании, содержал пигмент, созданный только через 130 лет после смерти Вермеера, – кобальт синий [460].
Нет ничего удивительного в том, что ван Мегерен допустил такую промашку. В конце концов, синий кобальт создавался именно как искусственный заменитель ультрамарина [461]. Французский химик Луи-Жак Тенар решил, что ключ к истинному синему – в кобальте, который использовали для подглазурной росписи в знаменитом севрском фарфоре. Тот же кобальт использовался и в небесно-голубого цвета плитке, которой выложены купола персидских мечетей. Кобальт присутствует и в знаменитом ирисового цвета стекле средневековых витражей в Шартре и Сен-Дени в Париже, а также в дешевой цветной смальте. В 1802 году Тенар совершил свое открытие: смесь арсената или фосфата кобальта с глиноземом при прокаливании давала чистый, насыщенный синий [462]. Химик и колорист Джордж Филд в 1835 году описывал его как «современный, усовершенствованный синий…» [463].
Читать дальше
![Кассия Сен-Клер Тайная жизнь цвета [litres] обложка книги](/books/405253/kassiya-sen-kler-tajnaya-zhizn-cveta-litres-cover.webp)

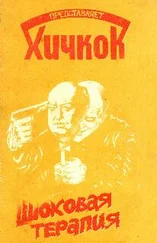
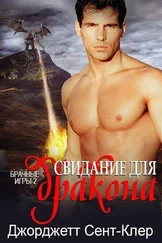

![Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю. [калибрятина]](/books/400123/kassiya-sen-thumb.webp)
![Гийом Мюссо - Тайная жизнь писателей [litres]](/books/407432/gijom-myusso-tajnaya-zhizn-pisatelej-litres-thumb.webp)
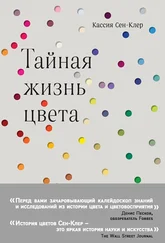
![Константин Муравьев - Тайная жизнь города [litres]](/books/435550/konstantin-muravev-tajnaya-zhizn-goroda-litres-thumb.webp)
![Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю [litres]](/books/438680/kassiya-sen-thumb.webp)