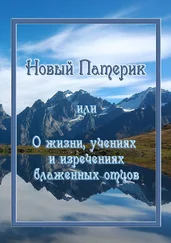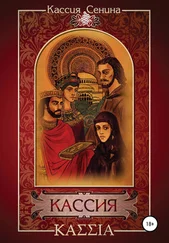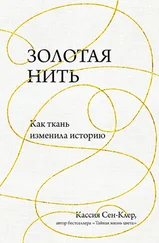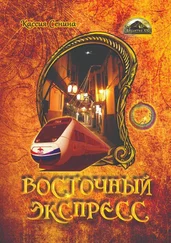Определения оттенка – «телесный» или «обнаженной кожи» наряду с менее распространенными «цвета загара» или «нагой» – предполагают цвет кожи представителя белой расы и поэтому сомнительны. Несмотря на то что телесный совершенно выбивается из основных трендов рынка мировой моды, он – при всей своей косности – на удивление живуч. Без «телесных шпилек» не обходится ни один гардероб, телесная (бесцветная) помада-«невидимка» ежедневно ложится на миллионы губ. И при описании одежды этот термин доминирует, несмотря на обилие альтернатив: песочный, цвет шампанского, бисквитный, персиковый и бежевый ( см. здесь).
Первую популярность этому цвету принесло женское нижнее белье – корсеты, пояса-корсеты, колготки и бюстгальтеры – в 20–30-е годы XX века. Вскоре естественная ассоциация между обнаженным телом и этим шелковистым исподним придала цвету эротические коннотации. Дизайнеры обращались к нему снова и снова, особенно в 90-х и в самом начале XXI века, когда набирал силу тренд «нижнее белье как верхняя одежда» [242].
Идея, лежавшая в основе такой расцветки нижнего белья, вероятно, заключалась в том, чтобы оно как можно меньше просвечивало сквозь прозрачные, воздушные ткани. Разумеется, как и сегодня, тогда оно полностью совпадало по цвету с натуральной кожей лишь немногих избранных – даже среди белых женщин.
Человек, который понимает это лучше многих, – бразильский фотограф Ангелика Дасс. С 2012 года она составляет «хроматическую опись» тонов человеческой кожи. Продолжающийся проект Humanæ сейчас объединяет более 2500 портретов людей со всех уголков мира. На каждом портрете изображен человек – видны только верхняя часть торса. Все люди сняты в одном и том же чистом и ярком освещении. Особенными эти портреты делает фон – полностью совпадающий с цветом лица натурщика или натурщицы (Ангелика берет цветовой образец с лица модели). Каждому портрету придается буквенно-цифровой код соответствующего оттенка в цветовой модели Пантон. Цвет кожи самой Ангелики Pantone 7552С [243]. Самое мощное воздействие эти портреты оказывают, когда они собраны вместе – сразу становится ясно, насколько клише вроде «белый» и «черный» на деле безосновательны и пусты. Вариации цветов кожи настолько разнообразны, что это не может оставить равнодушным никого.
Можно утверждать, что «телесный» в качестве цветового эпитета достаточно нейтрален по отношению к любому реальному цвету кожи и поэтому безобиден. Но дело не в цвете как таковом и даже не в слове, но в этноцентризме, расовом чванстве, скрывающемся за этим словом. «Те из нас, чей цвет кожи темнее „телесного“, – писала мисс Стюарт в 2010 году, – поняли, насколько этот цвет дискриминирует: от пластырей „телесного цвета“ до колготок и лифчиков; и так продолжалось годами». Конечно, кое-какие перемены к лучшему есть – все меньше косметических компаний притворяются, что единственный бледно-песочный оттенок тонального крема «подходит коже любого цвета», а в 2013 году Кристиан Лубутен выпустил линейку туфель в пяти разных «телесных» тонах – от бледного до темного [244]. Мы все знаем, что слово «телесный» может применяться к целому спектру цветов, а не единственному оттенку; пора бы уже миру вокруг нас тоже это понять.

Розовый – для девочек, голубой – для мальчиков; свидетельств тому – множество. В рамках «Проекта в розовом и синем», затеянного в 2005 году, корейский фотограф Юн Джонми снимает детей в окружении их вещей. Все девочки сидят, как потерянные, на одинаковых стереотипных розовых стульчиках.
Удивительно, но это разделение «девочки – в розовом, мальчики – в синем» оформилось только в середине XX века. Всего каких-то пару-тройку поколений назад ситуация была совершенно другой. В статье о детской одежде, опубликованной в New York Times в 1893 году, говорилось о таком правиле: «мальчику всегда давать розовое, а девочке – синее». Ни автор статьи, ни продавщица из магазина, которую она интервьюировала, не знали, почему так, но автор отважилась на ироничную догадку: «Жизненные перспективы мальчиков настолько радужнее, чем у девочек, – писала она, – что девочку может заставить загрустить одна только мысль о том, что всю дальнейшую жизнь ей предстоит провести женщиной» [245] [246]. В 1918 году отраслевой журнал подтвердил, что это «общепринятое правило», поскольку розовый – «более решительный и сильный цвет», а синий – «более деликатный и утонченный» [247]. Вероятно, это объяснение близко к правде. В конце концов, розовый – это всего лишь бледный красный, который в эпоху солдат в красных мундирах [248]и кардиналов в красных робах был самым маскулинным цветом, а синий был традиционным цветом Богоматери. До начала же XX века сама идея о том, что дети разных полов должны носить одежду разных цветов, была странноватой. Смертность и рождаемость были столь высоки, что всех детей до двух лет одевали в легко отстирывающиеся белые льняные платья.
Читать дальше
![Кассия Сен-Клер Тайная жизнь цвета [litres] обложка книги](/books/405253/kassiya-sen-kler-tajnaya-zhizn-cveta-litres-cover.webp)

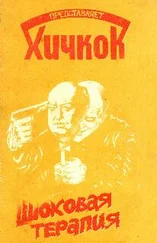
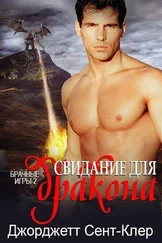

![Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю. [калибрятина]](/books/400123/kassiya-sen-thumb.webp)
![Гийом Мюссо - Тайная жизнь писателей [litres]](/books/407432/gijom-myusso-tajnaya-zhizn-pisatelej-litres-thumb.webp)
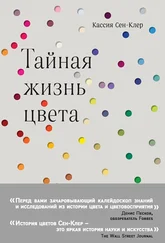
![Константин Муравьев - Тайная жизнь города [litres]](/books/435550/konstantin-muravev-tajnaya-zhizn-goroda-litres-thumb.webp)
![Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю [litres]](/books/438680/kassiya-sen-thumb.webp)