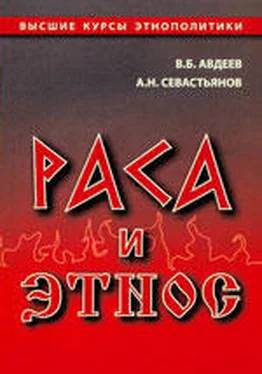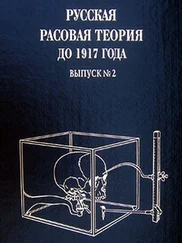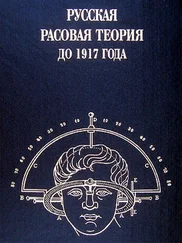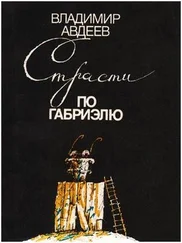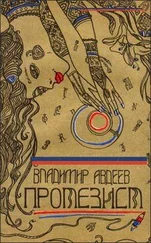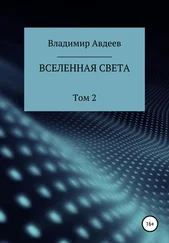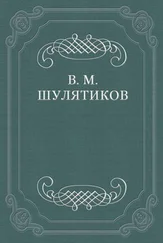Еще в 1922 г. отечественный ученый В. Г. Штефко в статье «Биологические реакции и их значение в систематике обезьян и человека» (Русский антропологический журнал, том 12, книга 1–2, 1922) сделал многозначительный вывод: «Соображения, высказанные на основе экспериментальных данных, приводят нас к чрезвычайно важному и в высшей степени интересному заключению. Культурные расы человечества, как например европейцы, имеют более сложное строение белковой молекулы, чем низшие расы. Таким образом, с биологической, или вернее, биохимической точки зрения они являются более сложно организованными, чем вторые».
Авдеев В. Б. Указ. Соч., с. 289–290.
Не только запах является биохимическим разграничителем рас, доступным непосредственно нашим органам чувств. Хотя трудно сегодня научным образом удостоверить такой маркер, но авторитетный антрополог Л. Крживицкий в одной из своих книг ссылался на достоверные данные своих опросов людоедов в разных странах: все они в один голос утверждали, что люди разных рас отличаются друг от друга по вкусу. Не верить этому нет оснований. Тем более, что вкусовые предпочтения людоедов удостоверяют их микроаналоги — кровососущие насекомые. Так, известный советский антрополог и гематолог Б. Н. Вишневский в своей брошюре «Человек, как производительная сила» (Ленинград, 1925) писал: «Насекомые различных рас выказывают отличия, обусловленные химизмом крови хозяина. Так, наружные паразиты японцев отличаются от обитающих на европейцах. Изучение насекомых с представителей различных рас поможет разобраться в вопросе о родственных связях племен». Вши и прочие паразиты, в отличие от «академических ученых», отличаются большим «знанием жизни», тонко улавливая различия в качестве крови, которую они сосут. А известный французский антрополог Жан-Жозеф Вирей в начале XIX века писал: «Известно, что точно так же, как каждый вид млекопитающих, птиц и так далее часто имеет своих насекомых-паразитов, которые обнаруживаются только у него одного, также они имеются и у негров: у них есть своя вошь, совершенно отличная от вши белого человека. „Негритянская вошь“ имеет треугольную голову, бугорчатое тело и черный цвет: такой же, как у негров».
В докладе Н. А. Дубовой (в сборнике «Проблема расы в российской физической антропологии». — М., 2002) подчеркивается: «До настоящего времени нет ни одного (!) факта, когда очень темная пигментация кожи, свойственная экваториальным группам, была бы отмечена для индивидуумов, предки которых родились не на Африканском, Австралийском континентах или в Южной Азии. Точно также не отмечено появления светлокожего, светлоглазого населения в Африке или Южной Азии без притока имевших такие признаки мигрантов».
Как выразился А. де Бенуа, популяционные генетики, создавая свои виртуальные, искусственные популяции, впали в «оптическую иллюзию», отрицая всем видимую невооруженным глазом реальность расовых различий. По-русски это называется за деревьями не видеть леса.
Не случайно сегодня фонетические особенности, которые считаются обязательной нормой языка для одних народов (шепелявость у англичан, картавость у французов и немцев), для других народов так же обязательно считаются дефектом речи (шепелявость и картавость у русских). Корифей расологии П. Топинар еще в XIX в. указывал: «Существуют языки, глубоко отличающиеся друг от друга и требующие особого устройства гортани для разговора на них и особого понимания для уразумения их (…) Следует обратить внимание также на различные способы ощущения музыкальной гаммы в пяти частях света. То, что гармонично для слухового аппарата мозга одних рас, неприятно для слуха других. Воспитание здесь не при чем, так как самый факт первичен и имеет анатомическое основание».
Члену-корреспонденту АН СССР С. П. Толстову принадлежит гипотеза «первобытной языковой непрерывности»: якобы человечество на заре своей истории говорило на многочисленных языках, постепенно переходивших один в другой на смежных территориях и составлявших в целом как бы единую непрерывную сеть. Однако ясно, что этнос Б, граничащий с одного боку с этносом А (и имевший некторую группу лексем АБ), а с другого — с этносом В (и имевший соответственно группу лексем БВ), уже не мог вовсе общаться с этносами Г или Д, не граничащими с ним вообще. Так что ни о какой непрерывности речь идти не может. Кроме того, не периферия, все же, определяет характер языка; а в этническом центре как раз оставались цельные и живые языки А, Б, В и т. д., созданные именно данными этносами и недоступные даже соседним этносам в своей цельности и живости (к примеру, у индейцев Северной и Южной Америки насчитывается около 130 самостоятельных языков!). Так что очередную попытку выдать «человечество» за нечто целое следует в очередной раз отмести.
Читать дальше