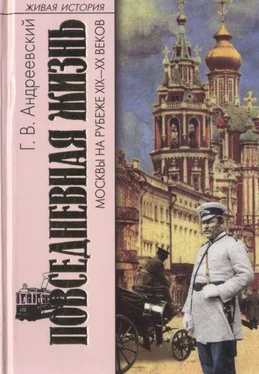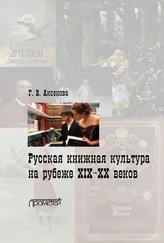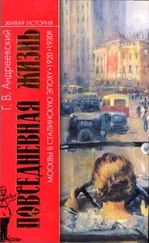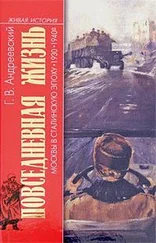Что касается Петровско-Разумовского, то в середине XIX века здесь были дремучий лес, пруд, напоминающий озеро с красивым таинственным гротом на берегу, о котором ходили разные легенды. Владела теми землями какая-то старушка. Её управляющий, немец Шульц, купил это заброшенное поместье всего за несколько тысяч, которые тотчас же и вернул себе, продав под вырубку участок строевого леса. Потом казна приобрела эту местность для Петровской земледельческой и лесной академии. Тогда проложили здесь прямой Новый проспект. Рассказывали, что проведён он был среди лесов с помощью астролябии [3] Угломерный прибор, служивший до XVIII века для определения долготы и широты в астрономии, с XVIII века применялся и для измерения горизонтальных углов при работах по межеванию земель.
от креста местной церкви на крест храма Христа Спасителя. Тогда же стали заселять и местность по обе стороны проспекта через сдачу лесных участков в аренду на 99 лет. Постепенно здесь возник целый город, протянувшийся до Дмитровского шоссе.
В конце 1880-х годов здесь, от Бутырок до Петровско-Разумовского, стал ходить паровозик с несколькими маленькими вагончиками на 28 мест каждый. Называли этот поезд «паровой конкой» или «паровым трамваем». Ходило это транспортное чудо очень редко, и поэтому посадка на него начиналась до того, как оно останавливалось у платформы. «Люди, — как писала газета в 1887 году, — набрасываются на поезд. Кондукторы стоят на ступеньках вагонов и отгоняют их. Можно подумать, что это нападение шайки диких индейцев под предводительством Орлиного Глаза. Причём лезут не только мужчины, но и женщины, и дети вскакивают на ступеньки. Многие, в результате борьбы с кондуктором, падают. В вагонах давка. Нельзя сойти на нужной остановке. При посадке бывает, что муж сядет в вагон, а жена и дети останутся».
И всё же в этих местах москвичи, те, что победнее, снимали дачи, а вернее, маленькие домики. Чистый воздух, лес не могли не радовать. Жизнь отравляла лишь страшная пыль, поднимавшаяся на Разумовском шоссе. Трава, деревья — всё находилось под толстым серым слоем пыли. Из-за неё многие дачники побросали свои домишки и двинулись дальше, за академию, на Выселки. Жизнь «в глубинке», конечно, имела не только свои прелести, но и свои недостатки. Богатому человеку, конечно, и там было неплохо: он имел прислугу, которую можно было посылать в город за продуктами, своих лошадей, чтобы добраться куда надо. Он и дом мог найти получше. Бедному же человеку приходилось продукты таскать на себе, тратить на дорогу туда и обратно примерно полтинник (деньги по тем временам не такие уж маленькие), жить в простой деревенской избе, в которой было темно и дымно. К тому же, как отмечали знающие люди, русский мужичок, соприкоснувшись с горожанами, внезапно обнаружил сребролюбие и стал пользоваться каждым удобным и неудобным случаем, чтобы содрать с дачника лишнюю копейку. И это ещё не всё. Автор одной из статей о дачной жизни тех лет, забывая о её прелестях, суммирует все её неприятности в таких словах: «Ветхость жилища, которое нельзя починить, скученность построек, пьянство домовладельцев, которое родит вечную брань и драки рядом с вашею калиткой, дороговизна продуктов и полное отсутствие свежего воздуха… ваша дача окружена помойными ямами и кучами сора, пыль с шоссе покрывает ваш сад серым слоем, вы хотите вечерней тишины, а рядом с вами играет гармошка, кричат дети, ругаются кухарки, ходят и заглядывают через вашу садовую решётку какие-то любопытные физиономии и вам некуда от них деться. Вы идёте в соседнюю рощу и в кустах видите золоторотцев (по-нашему бомжей)».
Автор, конечно, сгустил краски, но сквозь эту густоту всё-таки пробивается что-то близкое и до боли знакомое. От привычек никуда не денешься, они найдут тебя и за самым высоким забором.
Дачная жизнь
Переезд москвичей на дачи обычно начинался в первых числах мая. В Петровско-Разумовское, Зыково, Петровский парк и другие места тянулись подводы и фуры с мебелью и домашним скарбом. Кстати, о Петровском парке — это едва ли не первое подмосковное дачное место, и облюбовали его ещё немцы и прочие иностранцы, которые и ввели у нас дачную жизнь. Переходили мы к ней постепенно и не все сразу От богатых помещиков А. Н. Островского с их просторами и лесами, через разорившихся помещиков А. П. Чехова с их вырубленными вишнёвыми садами пришли мы, наконец, к дачникам А. М. Горького. И вот они, эти дачники, уже в начале XX века стали тосковать по старым временам, когда под словом «дача» понимался деревенский уголок, уединённый, с чистым воздухом, среди природы, далёкий от всякого шума и пыли каменного города. Таких уголков было вдоволь за каждой московской заставой, а заставы эти располагались не далее Садового кольца да Камер-Коллежского (ныне Бутырского) вала.
Читать дальше