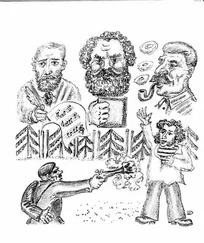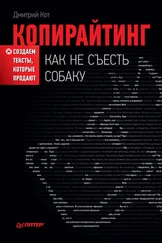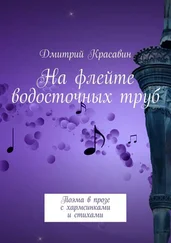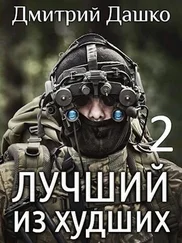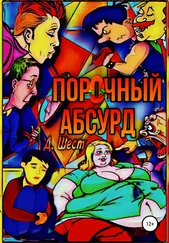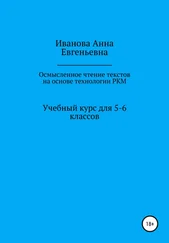Может ли искусство противопоставить что-то естественной установке? А. Введенский, продолжая тему, затронутую Липавским, дает на этот вопрос двойственный ответ:
Можно ли на это ответить искусством? Увы, оно субъективно. Поэзия производит только словесное чудо, а не настоящее. Да и как реконструировать мир, неизвестно. Я посягнул на понятия, на исходные обобщения, что до меня никто не делал. Этим я провел как бы поэтическую критику разума — более основательную, чем та, отвлеченная. Я усумнился, что, например, дом, дача и башня связываются и объединяются понятием «здание». Может быть, плечо надо связывать с четыре. Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал. И я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то, значит, разум не понимает мира.
(Чинари—1, 186)
С одной стороны, поэтическая критика, по Введенскому, гораздо радикальнее, чем отвлеченная критика Канта [164]; с другой стороны, искусство субъективно и поэтому производит только словесное чудо. В то же время поэзия может хотя бы попытаться очистить мир от всего, что его загрязняет; философия и на это неспособна. Интересно, что Беккет, который совсем не верил в профетическую роль искусства, также отдавал ему явное предпочтение перед философией. Лишь искусство способно выразить «грязь»:
Нельзя больше говорить о существовании, — отвечает он на вопрос Тома Драйвера, — надо говорить только о грязи. Когда Хайдеггер и Сартр противопоставляют бытие и существование, они, возможно, и правы, мне об этом ничего не известно; но их язык слишком философичен для меня. Я не философ. Можно говорить только о том, что ты имеешь перед собой, а сейчас это одна лишь грязь… Она здесь, и нужно дать ей войти в тебя [165].
«Разговоры» чинарей относятся к 1933–1934 годам, то есть к тому периоду, когда на смену авангардистскому задору пришли сомнение и разочарование. Но все же можно предположить, что и в это переломное время вера в освобождающую силу искусства окончательно не потеряна ни Хармсом, ни Введенским, — написал же Хармс 16 октября 1933 года свое знаменитое письмо к Клавдии Пугачевой, в котором восторженно отозвался об искусстве как о первой, чистой реальности. Беккет же, напротив, с самого начала своего творческого пути был убежден, что грязь отчистить нельзя, что она составляет существо мира; искусство не может с ней бороться, но может вобрать ее в себя. При этом грязь для Беккета — отнюдь не социальное понятие, грязь — это бескачественная основа мира, в которой растворяется все, что имеет границы, все, что конечно.
Введенский заканчивает свое рассуждение на том, что разрушение ложных связей бытия может повлечь за собой еще большую раздробленность мира. Чтобы воспрепятствовать этому, нужно обладать знанием, как «реконструировать» мир. Хармс-писатель этим знанием уже не обладает, поэтика его прозы — поэтика фрагмента, отрывка, выхваченного из контекста «случая». И тем не менее без разрушения причинно-следственных связей не обойтись, ведь задача искусства не в копировании внешнего мира, а в его трансформации, преображении. Кстати, это понимал и Беккет, не случайно он говорит, что писатель должен позволить грязи войти в него, должен сам подвергнуться радикальной трансформации. Текст, который он напишет, не будет реалистическим текстом, текстом о грязи, но сам станет грязью, той аморфной массой, в которой теряют смысл понятия жанра и стиля, содержания и формы.
2. Фантастическое, алогическое, реальное
Понятно, почему главный упрек, который чинари делают традиционной реалистической литературе, состоит в том, что она удовлетворяется описанием цепляющихся друг за друга событий, то есть основана на сюжете. Если верить Липавскому,
поэмы прошлого были, по сути, рассказами в стихах, они были сюжетны. Сюжет — причинная связь событий и их влияние на человека. Теперь, мне кажется, ни причинная связь, ни переживания человека, связанные с ней, не интересны. Сюжет — несерьезная вещь. Недаром драматические произведения всегда кажутся написанными для детей или для юношества [166]. Великие произведения всех времен имеют неудачные или расплывчатые сюжеты. Если сейчас и возможен сюжет, то самый простой, вроде — я вышел из дому и вернулся домой. Потому что настоящая связь вещей не видна в их причинной последовательности.
Читать дальше