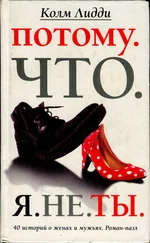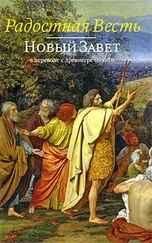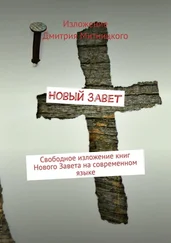Пока мы пробирались вперед, стараясь не терять друг друга из виду, каждый из нас, наверное, внешне ничем не отличался от окружающих, наверное, казалось, что и нас переполняет возбуждение, что и мы предвкушаем, как над тем, кто считал себя царем, будут издеваться, как его прогонят перед народом, как станут осыпать оскорблениями, а потом оставят на холме, у всех на виду, умирать мучительной смертью. Странно, но боль в натертой ноге — сандалии были слишком тесными, в таких долго по жаре не проходишь — иногда отвлекала меня от происходящего.
* * *
Когда я увидела крест, у меня перехватило дыхание. Крест был готов, крест ждал. Он был так тяжел, что нести его на спине было невозможно, и моего сына заставили волочить его сквозь толпу. Я заметила, что несколько раз он пытался стащить с головы терновый венец, но напрасно, шипы лишь глубже впивались в кожу лба — до самой кости. Каждый раз, когда он поднимал руку, чтобы облегчить боль, люди, шедшие сзади, нетерпеливо подгоняли его ударами дубинок и хлыстов. И на время он, казалось, совершенно забывал об этой боли и тащил свой крест дальше. Мы быстро обогнали его. Я все еще надеялась, что у его последователей есть план, что они выжидают, смешавшись с толпой, как и мы. Я не хотела об этом спрашивать, да теперь это было и невозможно: я думала, что каждое наше слово или неосторожный взгляд могут сделать жертвами и нас, что нас могут забить ногами или камнями, могут схватить.
Все изменилось, когда я поймала его взгляд. Мы шли впереди, я внезапно обернулась и увидела, что он снова пытается вытащить шипы изо лба, но ничего не получается, легче не становится, и вдруг на мгновение он поднял голову и встретился со мной глазами. Все его муки и ужас, казалось, разом ударили мне в грудь. Я вскрикнула и рванулась к нему, но мои друзья удержали меня, Мария шептала, что нужно вести себя тихо и не привлекать внимания, не то меня узнают и схватят.
Передо мной был мой родной мальчик, но сейчас он был еще беззащитнее, чем в первые дни своей жизни. Когда ребенком я держала его на руках, то порой думала, что теперь будет кому ухаживать за мной в старости, будет кому похоронить. Тогда, если бы я только могла представить, что увижу его окровавленного среди толпы, жаждущей еще большей крови, я бы зарыдала, как рыдала в этот день, и рыдания рвались бы из самой глубины моего существа, из самой сути. Остальное — лишь плоть, кровь и кости.
Мария и наш провожатый все твердили, что не надо с ним заговаривать, не надо кричать, и вели меня к холму. Было несложно затеряться в толпе, заполнившей все вокруг. Люди шумели, смеялись, ели и пили, рыжеволосые солдаты с грубыми лицами и щербатыми ртами перекрикивались на непонятном языке. Все было как на рынке, только еще оживленнее, как будто то, что должно произойти, принесет прибыль и продавцу, и покупателю. Мне все время казалось, что незаметно ускользнуть не составит труда, и я надеялась, что его друзья в этой суматохе спланировали побег в какое-нибудь безопасное место. Но тут я увидела, что на вершине холма роют яму, и поняла, что люди не шутят, что они здесь только с одной целью, хоть и кажется, что собрались случайно.
Мы ждали, и примерно через час появилась процессия. Каким-то образом вдруг стало явным различие между теми, кто пришел сюда за делом, выполнить работу, за которую заплатят, и теми, кто явился просто поглазеть. Странно, что многие почти не обращали внимания на то, как его прибивают к кресту, а потом при помощи веревок стараются подтащить крест к вырытой яме и закрепить.
Пока вбивали гвозди, мы стояли в стороне. Каждый гвоздь был длинней моей ладони. Пять или шесть человек держали его и вытягивали руку вдоль перекладины. Когда ему в запястье начали вбивать первый гвоздь, он взвыл от боли и попытался вырвать руку. Кровь брызнула фонтаном, он извивался и оглушительно кричал, а они били молотком и прижимали его руку к перекладине, загоняя острие гвоздя в дерево. Одна рука была прибита, и он изо всех сил пытался не дать им другую. Палач вцепился ему в плечо, но все же не смог отвести прижатую к груди руку и позвал на помощь. В конце концов с ним справились, и второй гвоздь был забит. Теперь обе руки были растянуты по перекладине.
Слыша его крики, я старалась заглянуть ему в лицо, но оно было так искажено страданием и залито кровью, что я не могла разглядеть ни одной знакомой черты. Я узнавала лишь голос, этот голос мог принадлежать ему одному. Я огляделась по сторонам. Люди вокруг занимались своими делами: ковали и кормили лошадей, забавлялись играми, перекидывались шутками, разжигали костры, чтобы приготовить еду, а дым поднимался к небу и разносился далеко вокруг. Кажется, невозможно понять, как я могла стоять и смотреть на все это, вместо того чтобы бежать к нему или звать его. Но я не шевелилась. Я смотрела, объятая ужасом, но не двигалась с места и не издавала ни звука. Так велика была их решимость, что ей ничто не могло противостоять. Ничто не могло противостоять их сосредоточенности и быстроте. Но все равно, кажется невероятным, что мы могли просто смотреть, что я решила не подвергать себя опасности. Мы просто смотрели, потому что другого выбора не было. Я не закричала и не побежала к нему на помощь, потому что это было бесполезно. Меня отшвырнули бы, как мусор, принесенный ветром. Но странно и невозможно понять теперь, через столько лет, что я могла владеть собой, рассуждать, смотреть, и ничего не делать, и знать, что поступаю правильно. Мы стояли в стороне, держась друг за друга. И всё. Мы стояли в стороне, а он выл от боли и выкрикивал непонятные слова. Может, мне надо было тогда рвануться к нему, несмотря ни на что. Это ничего бы не изменило, но, по крайней мере, я сейчас бы не думала об этом снова и снова, не понимая, как я могла не броситься к нему, не оттащить их и не кричать, как я могла молча смотреть, не двигаясь с места. Но было так.
Читать дальше