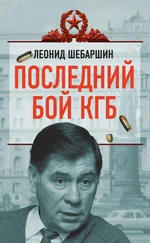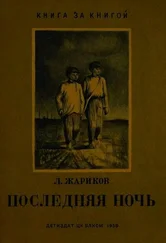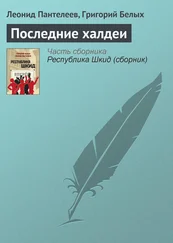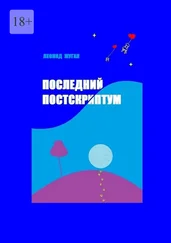225
венности, большевики уничтожили противников советской власти и всех “бывших” ради достижения своей главной цели.
Не почерпнули ли большевики и сам Ленин рекомендации в применении методов достижения цели у Никколо Макиавелли? Похоже, что так. Ведь это он еще в начале XVI в. в своих произведениях “Рассуждения о первых десяти книгах Тита Ливия” и “Государь” поучал правителя игнорировать всякую мораль и нравственность, не останавливаться ни перед какими средствами и идти на любые преступления ради создания и укрепления государства. Он советовал правителю быть безжалостным и вероломным, беспощадным и суровым, немилосердным и жестоким. На подданных следует действовать гневом, страхом и насилием. “Та война, — писал он, — справедливая, которая необходима, и то оружие благочестиво, на которое только и возлагается надежда”. Эти “истины” потом признавал и французский император Наполеон. Макиавелли заявлял также: “Пусть обвиняют его (государя. — Авт.) поступки, лишь бы оправдывали результаты их, и он всегда будет оправдан, если результаты будут хороши...” 234 234 Макиавелли. Рассуждения. ■— Кн. 1. — Т. 9. Государь. — М.: Планета, 1990. — С. 50, 52. 65. 77.
. Ленин и советские историки по понятным причинам считали теорию Макиавелли прогрес-сивной для своего времени, поскольку в основной своей части она служила руководством в борьбе с феодальной раздробленностью в Италии. Они оправдывали все методы, которые применяли большевики в период гражданской войны, — немыслимый по жестокости террор, взятие заложников, децимацию. Поскольку получились “результаты хороши", то оправдывались любые методы их достижения.
О расстрелах пленных в Крыму было известно лишь организаторам и исполнителям этой чудовищной акции, да некоторым случайным свидетелям, которые под страхом беспощадной расправы вынуждены были молчать. А обличительные произведения на эту тему Шмелева, Волошина, Сергеева-Ценского (“Линия убийцы”), эмигрантских писателей до людей по понятным причинам не доходили. Потому и не было какого-либо реагирования на эти события со стороны общественности и государственных органов. Исключением может быть лишь известное письмо Султан-Галиева в Политбюро ЦК РКП(б) о необоснованных расстрелах в Крыму, которое вызвало в верхах много шума. В связи с этим была создана и направлена в Крым специальная комиссия для проверки фактов, изложенных в этом письме. На вопросы членов комиссии чекисты отвечали, что они действовали по указанию ленинского посланца Белы Куна. На этом все и закончилось.
О письме и докладе комиссии вскоре забыли, а в открытую печать так ничего и не просочилось.
Из довольно популярного издания “Крымский архив” стало известно о том, что в первые же месяцы утверждения советской власти в Симферополе большевики все стали переделывать на свой лад, даже учебный процесс Таврического университета. В довольно интересном очерке журнала (“Крымский архив”, 2002, № 6) о событиях в университете рассказывается о поистине самоотверженной борьбе его ректора академика В. И. Вернадского за выживание учебного заведения, выступавшего в защиту профессорского и преподавательского состава, непрерывно подвергавшегося арестам, обыскам и грабежам. Однако Крымревком и Крымнаробраз не могли долго терпеть вызывающего, независимого и своевольного поведения ректора. Вместе с иными неугодными учеными В. И. Вернадского выслали из Крыма, а университет после ликвидации и реформирования превратился в педагогический институт. О событиях в университете и “революционной” его перестройке были даже публикации в газете “Красный Крым”.
Министр иностранных дел Великобритании Керзон, зная положение Белой армии, еще в июле 1920 г. обращался к советскому правительству с нотой о перемирии с Врангелем и амнистии солдат и офицеров. Учитывая тяжелую ситуацию на Западном фронте, можно было бы найти приемлемое решение в переговорах с целью прекращения войны на юге. Но Ленин, усмотрев в ноте Керзона угрозу аннексии Крыма, фактически ее отклонил, а страна упустила возможность окончить войну. Большевикам нужна была власть полная и безраздельная. Надо было уничтожить, смести с лица Земли всех, кто посмел оспаривать их владычество над Россией, кто с оружием в руках оказывал сопротивление, кто сложил оружие и сдался на милость победителей.
В странах Европы пристально следили за развитием событий в России. Знали здесь и о расстрелах пленных в Крыму, и не только от эмигрантов. К сожалению, реакция государственных и общественных кругов на это величайшее преступление большевиков была незначительной. В это время лидеры европейских стран были заняты прежде всего своими внутренними проблемами и надвигающимся на них экономическим кризисом. Исходя из этой ситуации европейские страны весьма осторожно, оглядываясь и выставляя условия, искали пути к примирению с Россией. Видимо, они все-таки рассчитывали получить от нее миллиардные долги царского и временного правительств и видели в России неограниченный рынок сбыта. В дальнейшем, начиная с Генуэзской международной конференции 1922 года в Рапалло, частично они этого добились. О геноциде в
Читать дальше